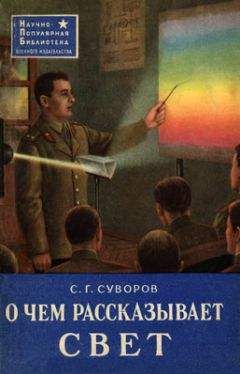– Имею смелость возразить вам, мэтр, – произнес очень высокий молодой человек с какой-то невероятной болезненной остротой всех черт, сидящий прямо напротив маслиноглазого господина, – мне кажется, искусство создания портрета не вписывается в вашу парадигму. Мы можем испытывать любые чувства к человеку, лицо которого мы собираемся писать. Чувства не важны. Мастера писали и великих диктаторов, и великих преступников своей эпохи. Секрет портрета не в отношении, выраженном посредством кисти, а в его строгой логике. Дар портретиста – прежде всего дар понимания человеческих лиц. Хороший портрет содержит (неявное, но всегда прочное) глубокое соответствие формы и содержания – все морщинки, складочки, детали мимики отражают наиболее часто испытываемые людьми эмоции: веселье, задумчивость, ярость, брезгливость, грусть. Чтобы написать портрет нужно разгадать человека, разглядев лицо, проникнуться тем способом проживать жизнь, который этот человек для себя избрал…
Женщина-мастер посмотрела на молодого человека с уважением.
– Но никто из вас ведь не станет спорить, что природа – есть непрерывное и неизбежное продолжание самой себя; утверждение и обновление жизни – единственная вечная ценность, а сила, поддерживающая и творящая жизнь, есть эрос; каждый художник находит свой путь проведения этой истины к душе зрителя через его глаза… – реабилитировался мэтр.
В этот момент к столику подошёл официант, и на некоторое время художники отвлеклись от обсуждения, занявшись выбором из многих сортов вин, закусок и превосходного табака.
– Исторические картины, на ваш взгляд, тоже должны содержать в себе утверждение и обновление жизни как основное смысловое ядро? – возобновил разговор молодой художник.
– Разумеется. История – это та же почва, та же плодородная земля, только произрастают на ней не благоуханные цветы и красивые девушки, а человеческие таланты и характеры, история – суть среда, без которой мы не сформировались бы именно такими, какие мы есть теперь. Вопреки мнению многих наших современников, которые обязуют всякого художника создавать злободневные общественно-политические, социальные, исторические картины, полагая, будто иначе он не может считаться полноценным творцом и патриотом, я думаю, что от влияния эпохи мы просто не в силах уйти по причине нашей естественной ограниченности, потому быть сыном своего времени – это скорее не обязанность художника, а его прискорбная данность… А что касается вашего вопроса, о взаимоотношении исторического и природного круговорота жизни, то тут всё довольно просто. Законы, диктуемые нам природой, находят отражение в системе символов, принятой в живописи. Скажем, желает художник изобразить революцию. Светлое предчувствие, обновление, устремлённость в будущее. Какой образ тут напрашивается? Естественно, девушка… Вот она стоит, допустим, на краю обрыва, смотрит вдаль, ветер приподнимает на ней юбку, скажем, алую, точно знамя; во всей фигуре её и нерешительность, и неопределённость, и скрытая сила, готовность двигаться вперёд, энергия самой жизни, и, конечно же, эрос… Он неявен, художник не показывает зрителю напрямую, в какую именно даль смотрит девушка на картине, образ возлюбленного-революционера, за которым она готова идти лишь мыслится, предполагается, но намёк на него и придаёт самому образу девушки со взглядом, устремлённым за горизонт, требуемую цельность…
Молодой человек слушал очень внимательно, не притрагиваясь ни к вину, ни к успевшему уже остыть мясу.
– Господин Дорден, – спросил он после небольшой паузы, дав почтенному художнику прожевать и проглотить очередной кусок, – а всё же что должно быть первостепенным в живописи, скажите мне как учитель, красота или идея?
– Ваш вопрос сам по себе бессмыслен, – ответил Дорден, снова промокая потную лысину ослепительно белой салфеткой, – одно неотделимо от другого, живопись – есть идея, выраженная языком красоты. А красота никогда не есть застывший абсолют, она каждый миг обретается глазами смотрящего под воздействием сильных переживаний, по большей части чувственных, личных, потому я и говорил выше, что именно эрос лежит в основе вдохновения…
– Признавая все пути поиска красоты лишь чувственными, – сказала царственно стареющая женщина, кстати сказать, единственная в обществе нескольких мужчин, – художник отказывается от многого и ограничивает своё развитие.
– Знаете вы эти самые другие пути? – пытливо взглянув на неё, спросил Дорден.
– Преодоление страдания, – ответила женщина, – общественного и личного. Другой путь получается, если смотреть на красоту не как на источник возможных наслаждений, а как на единственное спасение от неминуемой боли, от смерти. Видели вы картину «Нищий», что активно выставлялась этой весной, – на ней маленькая нарядная девочка, выходящая из церкви со своей матерью, протягивает монету дряхлому старику на паперти; здесь в красоте жертвующей, красоте дающей, присутствует высшее, небесное начало; красота творящая добро – образ божественный, потусторонний – в нём как бы содержится обещание рая для того старика, прожившего такую мучительную и никчёмную жизнь…
Дорден, вероятно, хотел что-то возразить; он терпеливо пережёвывал мясо, приготовляясь, выжидая – во всей его мощной фигуре содержалось намерение продолжать спор, но снизу из-под скалы внезапно послышались истошные крики на незнакомом языке. Некоторые посетители кафе поднялись со своих мест и подошли к металлическому заграждению.
По мостовой, мелькая между рваными лоскутами пальмовых листьев бежала девушка в синем платье. Её преследовал парень, по всей видимости, пьяный, хватал за руки, за подол, за пояс и пытался куда-то тащить. Некоторое время спустя вокруг них сгрудилась толпа, послышались звуки полицейского свистка. Художники расселись по своим местам. Дорден ухмылялся, обдумывая, вероятно, как можно пришить увиденное к его сегодняшним рассуждениям о величии и абсолютной власти эроса над всем живущим. Женщина с проседью неторопливо курила электронную сигарету.
– Я хочу рассказать вам одну историю, – изрек никак не участвовавший до той поры в разговорах пожилой художник с пышной окладистой бородой, – суть отношений между творцом и красотою непроста, она постепенно познаётся нами в течении всей жизни… И что есть самая жизнь художника – непрерывное упоение красотой или великая жертва во имя красоты? Красота – бог спасающий нас или диавол, нас искушающий… Это вечные вопросы, и мы ни до чего так и не договоримся тут, я уверен. Потому просто послушайте сейчас, господа.
===Легенда о Лунном Принце===
Соломея рисовала мужчин. Она не видела смысла рисовать что-либо иное, считая, что в основе творчества всегда лежит эрос, и самые лучшие произведения искусства создавались любовью: они, если выражаться образно, были зачаты в душах художников, поэтов и музыкантов их возлюбленными, музами.
Соломея рисовала мужчин одетых и обнаженных, богатых и бедных, мужественных и хрупких, невинных и развращенных – она в каждом умела находить заветную черту, способную вдохновлять. Все её работы были наполнены живым трепетом страсти; любой из запечатленных пробуждал в зрителях соучастие точно такое же, какое пробуждает человек в процессе общения. В мужчину с портрета можно было даже влюбиться. И это происходило потому, что всякий раз, создавая портрет, влюблена была сама художница, мастер, и все её чувства, порывы и желания волшебным образом оказывались перенесенными на полотно.
Так продолжалось до тех пор, пока мрачным ноябрьским днём от городского пьянчуги, с которого она делала набросок, Соломея не услышала Легенду о Лунном Принце.
''Он живет в дивно прекрасном саду, где всё невиданное: птицы, что никогда не обитали на земле, цветы, что никогда на ней не цвели, закаты, каких не бывает от солнца, – говорил он, активно жестикулируя руками, в одной из которых держал сигарету, в другой – полупустую бутылку, – они очаровывают настолько, что замираешь и боишься дышать. Но если уж сам Лунный Принц вздумает выйти и прогуляться по своему саду, то всё вокруг как будто бы сразу погаснет, померкнет… Он идёт, затмевая собою окружающие дивные краски, среди этой невиданной красоты точно единственная цветная фигура на чёрно-белой пленке… И он всегда гуляет один, потому что его облик способен свести с ума, навеки лишить покоя, даже убить. Некоторые, увидев его, умирали… Особенно художники. Они уязвимы, красота способна сильно ранить их. И с тех пор, как Принц осознал своё пагубное влияние на людей, он, разговаривая с ними, покрывает лицо.''
Соломея выслушала Легенду очень внимательно и, как могло показаться, осталась равнодушной. Она никак не прокомментировала рассказанное, сунула в зубы сигарету, закурила, посмотрела на небо… Но покой покинул её. Она не смогла больше работать по-прежнему. Теперь, путешествуя метким взглядом вдоль изящных изгибов своих обнаженных натурщиков, которые прежде распаляли в ней негасимый пожар вдохновения, она иногда ловила себя на мысли, что где-то есть нечто гораздо более прекрасное, и оно останется не написанным потому, что ей не дано увидеть его. Соломея стала плохо спать, выходить по ночам на кухню, запахиваясь в плед, пить крепкий чай и курить одну за другой, неотрывно глядя в черноту окна, словно там, за этим непроницаемым шёлковым полотном ночи, скрыто неописуемо прекрасное лицо.