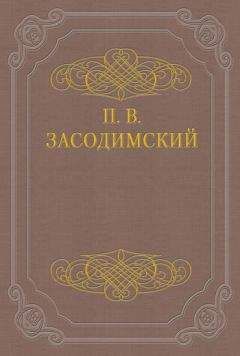Шла Палаша не одна, но с ребенком на руках, с плодом своей несчастной любви. Месяца уже полтора тому назад оставила она город и теперь возвращалась в Болотинск уже сам-друг на горе самой себе.
Когда начали являться несомненные признаки того положения, которое, неизвестно почему, называется интересным положением, когда стройный стан ее стал значительно полнеть, когда ей уж приходилось тяжело справляться с обычной работой – стирать, мыть полы, Палаша решилась отказаться от места, для сохранения своей доброй славы, по крайней мере хоть на время, и идти в родную деревню.
– С отцом хочется повидаться! Давно уж я дома-то не бывала… – говорила она отцу Василию.
– Ну, и что же! Доброе дело! – соглашался отец Василий. – Сходи, да и возвращайся…
– Я уж, отец Василий, и добро-то свое у вас оставлю! – попросила девушка и немного скраснела от кроткого, но испытующе пристального взгляда священника.
– Оставь! – согласился и на это отец Василий, сам тоже слегка покраснев, и взялся за бороду…
Попадья уже замечала кое-что за Палашей и сообщала не раз свои подозрения мужу, но муж чуть уши не затыкал и усовещивал жену не грешить попусту: старый священник даже не мог представить себе беременную девушку, живущую в его доме.
– Да ты послушай, как она кашляет! – внушительно шептала ему жена.
– Ну что же! Ну и кашляет! – упорствовал муж.
Отец Василий не любил ни вражды, ни доносов, ни злых людей, ни добрых, дурно говорящих о злых, – словом, ничего такого, что неприятно смущает сердце. Отец Василий желал видеть в мире более доброго, чем злого, и был весьма склонен думать, что на свете все хорошо и все к лучшему. Сгорит ли дом, потонет ли человек, раздавят ли кого-нибудь лошади, обидит ли его самого благочинный или консистория,[15] – отец Василий при всяком несчастном случае говорил все одно и то же:
– К лучшему, матушка, все к лучшему!
Жена, разумеется, часто не могла соглашаться с ним.
Так, старый священник и о Палаше никак не хотел думать худого, но теперь, когда работница стала спрашиваться у него домой, священнику вдруг бросилась в глаза полнота ее, припомнились слова жены, и он подумал, что жена, пожалуй, и права. Вот отчего покраснел отец Василий, глядя на девушку; вот отчего он вздохнул свободно лишь тогда, как Палаша вышла от них со двора с котомкой за плечами и скрылась из виду.
«Авось отец не выдаст! – раздумывала Палаша, выходя за заставу и минуя пороховые магазины. – Авось не оттолкнет он свою дочь, приголубит ее по старой памяти, хоть в память своей первой жены…» Отец даст ей уголок в своей хате, обогреет ее, приютит и покормит, пока она не оправится. Старик даже, очень может быть, смилостивится до того, что и ребенка ее не отбросит, возьмет к себе питомцем своего безыменного внука и тем освободит бедную мать от непосильной и позорной ноши. На заступничество и любовь мачехи Палаша, конечно, не надеялась.
Но лишь только вступила она под отческий кров, как все ее надежды разлетелись в единый миг; отец, подпавший под старость еще пуще прежнего злому влиянию мачехи, прогнал прочь от себя непотребную дочь.
– Срамница! Мерзкая ты тварь этакая!.. Да как ты глаза-то свои бесстыжие показать смела!.. – хрипел суровый старик и даже не пожалел – грубо толкнул и пихнул от себя повалившуюся к нему в ноги девушку.
Тут уж Палаша поднялась, – сама гордая, сама жестокая и злая; слезы высохли у нее на глазах, зато лицо пуще побледнело. Не оглянувшись ни разу на порог родной хатки, молча пошла она по улице… Стучалась она под окнами у соседей, но и соседи не пускали ее к себе: никто не хотел принимать ее к себе, никто не хотел прикрывать тяжкий грех… Одна было ветхая старуха сжалилась над юной грешницей, впустила ее, но через день же, вследствие наговоров и угроз, прогнала Палашу.
В грязной бане, на охапке грязной соломы родила Палаша своего сына-первенца. Скрипя зубами и проклиная, взяла она впервые на руки своего крошку, без имени, без прозвища. Сумеречный свет пробирался в баню сквозь разбитое оконце и сквозь густые ветви ивы, росшей под окном. И при этом сумеречном свете неприязненно смотрела Палаша на свое незаконнорожденное дитя.
И вот теперь шла она с ребенком в город, шла совсем не тою Палашей, какою выходила из города. Теперь уж не запеть ей с горя песенку, не разогнать своей кручины. Что делать? Куда деваться с своей пропащею головушкой? Что бы такое получше придумать? Вот какого рода вопросы задавала ей минута и настойчиво требовала скорого, прямого ответа. А где его взять – этот проклятый ответ? Он еще не готов; в голове Палаши мысль все еще бродит, словно в потемках; никакой свет – хотя бы самый скудный – не озаряет отуманенного мира ее души…
В город идти нельзя: девку с ребенком никто в услужение не возьмет; нигде ей места не получить, а место между тем ей необходимо для того, чтобы жить. Отдать же ребенка на воспитание, как то делают иные, Палаша не могла за неимением денег. «Ведь рубль в месяц возьмут, поди, – рассчитывала она. – Да, пожалуй, еще и больше запросят: нынче все этак дорого, хлеб-то не уродился…» А и всего-то на все она получала два рубля без четвертака!.. Где же ей платить еще за сына, когда самой-то не всегда достает этих денег. Куда же ей девать сына? По миру побираться! А стыд? Да разве Палаша умеет протягивать руку за милостыней: она умеет только работать и за работу деньги берет.
Ясный майский вечер потухал. Темные, густые облака со всех сторон заносили небо. К ночи поднялся ветер и зашумел по лесу.
Палаша шла по узкой лесной тропинке, густо позаросшей травой, под нависшими ветвями старых сосен и елей. Ночь темная, без месяца, без звезд уже наступала, а ответ между тем на роковые вопросы в руки все еще не давался. Голова болела от усиленных, напряженных дум; усталость подкашивала ноги, сердце билось редко-редко, но мерно и тяжело, словно отбивало какой-то чрезвычайно трудный, тоскливый марш, захватывавший дыхание.
Тут полубольной и разбитой Палаше под знакомый шум лесных деревьев вдруг припомнилась смелая, отважная девочка, отправлявшаяся в неведомый мир, с одной только палкой в руке, счастье себе завоевывать. Та девочка с таким упованием смотрела вперед: так свеж, прекрасен и чист был ее собственный мир надежд и помыслов, так бодро встряхивала она своими блестящими черными волосами, такие беззаветно-веселые, задушевные песенки напевала она, что Палаше даже не верится, что та девочка была не кто иная, как она сама. Тогда Палаша думала, что если захочет что она, – то все может выполнить; захочет, например, быть вольною – и останется ею навсегда… Свои желания она может исполнять безбоязненно, может устроиться независимо, в довольстве, счастливо: ведь для того она будет работать и работать…
И совершенно справедливо думала та смелая девочка, представлявшая, по своей наивности, идеальным то общество, в которое она шла с дерзким желанием быть счастливою…
Но так думала Палаша тогда. А теперь? Теперь уж она ясно видела, что смело она шла и смело, очертя голову, полетела в пропасть, что не устроила она себе счастья…
Так всегда: одни на костях других строят себе нечто призрачное – подобное счастью, и ничего не успевают сделать, потому что на их костях третьи хотят созидать что-то, а те, в свою очередь, попадают в руки четвертым – и так далее до бесконечности. Не устраивается счастье на несчастье других; а строить счастье на ином основании люди не могут, не умеют…
Стал дождь накрапывать; в лесу тени сгущались все более и более и, наконец, слились в одну мрачную тень и затопили собой все лесное царство… А роковой ответ все еще не получался… Вдруг заплакал ребенок: несколько холодных дождевых капель упало на него с ветки, о которую нечаянно головой задела мать. Палаша вздрогнула, крепко прижала дитя в своей ноющей груди и вдруг вместе с ним опустилась на землю. Лихорадочно блестевшие глаза ее с страшным выражением впились в личико ребенка, в его смежавшиеся глазки… Ребенок долго плакал, просил груди, но материнская грудь не давала ему ни капли молока. Напрасно припадал к ней ребенок… Наконец он устал, захотел спать…
Перед глазами Палаши все вдруг ходенем заходило – и густой кустарник, и кочки, и шумящие ели, и высокие сосны… В голове ее что-то ужасное рождалось, – и росло это «что-то» не по часам, – по мгновеньям…
Палаша, как будто во сне – кладет сына между двух высоких кочек в густую, мягкую траву, подымается с колен – тоже как будто во сне, и, пошатываясь, запинаясь за корни дерев, идет прочь… Слабый крик доносится до нее порывом ветра, несется далее по лесу и приковывает Палашу к месту… Онемелою рукой проводит она по лицу, словно бы стараясь припомнить что-то, возвращается к двум кочкам, теребит мох и затыкает им рот ребенку. Она закрывает мхом почти всего малютку и идет… Не идет – бежит… Дождь мочит ее и пронизывает насквозь, колючие ветви сосен хлещут ей в лицо, бьют в грудь, рвут у нее с головы платок… Деревья словно хотят остановить несчастную, обезумевшую мать… Ветер страшно гудит, ревет по лесу и стонет в ветвях сосен и елей… Сквозь шум, сквозь свист и завыванье бури до Палаши опять долетает слабый крик, – этот крик отдается у нее в ушах, отдается в сердце, в голове, и мучит, и терзает несчастную детоубийцу до истощения сил, до отчаяния, до одуряющей боли. То воображаемый крик… Палаше чудится, что за нею гонится кто-то, кто-то хватает ее… За нею гонится все тот же болезненный крик беспомощного существа, заживо погребенного ее руками… Нет! Невмочь! Она возвращается назад, ищет, бродит по лесу и никак не может найти свое дитя… Стонут сосны, стонут ели; треск расходится по лесу, – адская музыка гудит над темным лесом в темной вышине… Палаша измучилась, обессилела – и почти без чувств падает на груду сухого хвороста под старою елью.