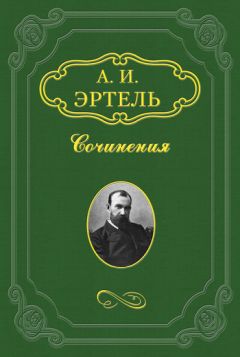– Что между ними общего! – закричал Тутолмин яростно на Захара Иваныча.
– Как что?.. – в изумлении произнес Захар Иваныч. – Богат, красив, – он очень красив… Ты-то что, Илья! Граф какой мозгляк перед ним, а и то она тает. Барышня, брат…
– Что барышня? – внезапно опавшим голосом спросил Илья Петрович.
– Да вообще…
– Вообще подлость, – резко перебил Тутолмин и, шумно поднявшись с места, ушел в свою комнату.
А Захар Иваныч никак не мог догадаться, чем он так рассердил приятеля. Он подумал и тихо подошел к двери его комнаты.
– Илья, – сказал он, – Илья!..
– Что вам угодно? – ответил тот.
– Но ты не осмыслил вопроса, Илья; ты не обсудил его воздействий на крестьян, – вкрадчиво вымолвил Захар Иваныч, стоя у двери, – ты не сообразил всех польз…
– Я давно обсудил.
– Но ежели они будут садить корнеплоды…
– Я давно обсудил, повторяю вам.
– Но согласись, Илья…
– Я давно обсудил, что вы все тут трещотки и фарисеи! – раздражительно воскликнул Илья Петрович.
Захар Иваныч хотел было что-то сказать, но подумал и не решился. Он взял фуражку, взял лист бумаги с карандашом и вышел на цыпочках из комнаты. «И милый человек, – думал он, – а как от жизни-то отстал… Вот тебе и книжки!» – И, уютно поместившись на крылечке, старательно начал вычислять стоимость рафинадного отделения.
А Тутолмин лежал на постели, гневно плевал в потолок и чувствовал себя очень скверно.
Вечером суровый и гладко выбритый человек в кашемировом сюртуке явился к Захару Иванычу и доложил, что «господа просят его пожаловать с гостем чай кушать». Илья Петрович было отказался. Но Захар Иваныч так просил его и вместе с тем так хотелось самому ему повидать Варю, что он не выдержал и напялил свой парадный сюртучок. Кроме сюртучка, он надел еще свежую рубашку отчаянной твердости и белизны и отчаянного же фасона: воротнички достигали до ушей. Но ему казалось, что это последнее слово моды, а он на этот раз не хотел ударить лицом в грязь.
Как же зато и вспыхнула Варя, когда он петушиной походкой вошел в гостиную. По обыкновению, она сидела около графа и внимала неутомимой его болтовне. При входе приятелей граф вопросительно посмотрел на нее. «Тутолмин…» – прошептала она, потупляя глаза и не подымаясь с места. «Боже мой, какие несчастные воротнички!» – восклицала она мысленно. Произошло обоюдное знакомство. Илья Петрович тотчас же заметил смущение Вари и ее соседство. В горле у него снова пересохло; на лбу появилась неприязненная морщина. А между тем он волей-неволей должен был присоединиться к ним: Захар Иваныч, как только вошел, сейчас же затеял разговор о заводе, и не только Лукавин, но даже Алексей Борисович стремительно пристали к этому разговору.
– Вы изволите участвовать в… – граф назвал журнал.
– Точно так, – сухо отчеканил Тутолмин.
Варя посмотрела на него удивленными глазами. И опять воротнички привлекли ее внимание.
– Если не ошибаюсь, я читал ваш очерк… – продолжал граф и упомянул заглавие очерка.
– Может быть, – с сугубой сухостью вымолвил Илья Петрович.
Но Облепищев или не замечал, или не хотел замечать этой сухости. Присутствие нового человека приятно возбуждало его нервы. Любезно наклоняясь к Тутолмину и с обычной своей грацией жестикулируя, он заговорил:
– Но всегда меня поражало это ваше пренебрежение к форме, простите… Это, разумеется, может составлять эффект; но, согласитесь, только в виде исключения. Знаете, исключение, обращенное в привычку, чрезвычайно надоедливая материя, – и поправился, мягко улыбнувшись: – Иногда! Иногда!
Тутолмин угрюмо молчал. Варя посматривала на него с беспокойством (его костюм уже переставал резать ей глаза).
– И к тому же новизна-то не приводится в систему! – продолжал граф, все более и более оживляясь. – Шекспир отверг классические образцы, но зато дал свой. Лессинг насмеялся над чопорными куклами Готтшеда, но написал «Эмилию Галотти…» Наконец, наш Пушкин… Да наконец совершенно в другой области искусства можно проследить это последовательное развитие форм. Мы имеем строго законченное архитектурное построение в форме Парфенона. Но раз форма эта приедается, – простите за вульгарное слово (Тутолмин язвительно усмехнулся), – не хижина зулуса какого-нибудь появляется ей на смену, а римский свод. Этот свод, в свою очередь, уступает место готическому. Но с каждым разом мы видим систему: переход от строгой простоты греческого портика к узорчатым стрелам Кельнского собора ясен как серебро. Так же как ясен переход от «Капитанской дочки» к «Песне торжествующей любви». Но переход обратный, переход от Парфенона к хижине зулуса какого-нибудь, от самого принципа формы к полнейшей стихийности… Воля ваша!
– Вы где изволили обучаться? – быстро перебил его Илья Петрович. Варя встрепенулась в испуге. Граф в изумлении посмотрел на него.
– В пажеском корпусе, – сказал он.
– И по заграницам ездили?
– Путешествовал…
– Бывали в музеях, видели Мадонну Сикстинскую, Венеру в Лувре?
– Видел… Но я не понимаю…
– И языками владеете? В подлиннике Шекспира читаете? Декамерон, поди, штудируете на сон грядущий? Римские элегии изучаете…
– Простите, но я…
– Отлично-с, – резко остановил его Тутолмин, – а я, смею доложить вашему сиятельству, сын стряпчего, – знаете, взяточники этакие существовали в старину, – а учился я у дьячихи… А в университет пешком припер, с родительским подзатыльником вместо благословения. Да университета-то не кончил по случаю голодухи, ибо на третьем курсе острое воспаление кишок схватил от чухонских щей… В детстве читал «Путешествие Пифагора» да сказку про солдата Яшку-красную рубашку, – вашему сиятельству неизвестна такая?..
– Все, разумеется, имеет raison d'être[17]…– начал было явно опешенный граф.
– Но граф и не думает винить вас, Илья Петрович… – вмешалась Варя.
– О, я и не воображал в вашем доме встретить прокурора, мадмуазель, – язвительно произнес Тутолмин, – я только имею интересный вопрос к его сиятельству…
– Чем могу служить? – с преувеличенной вежливостью вымолвил граф. А Варя надменно закинула головку: она глубоко негодовала.
– Служить-то вы мне ничем не можете, – бесцеремонно сказал Тутолмин. – Я только хотел вас спросить: отчего это все вы, изучающие Мадонн и Шекспиров, предпочитаете курорты навещать, а не являетесь в литературу?
– Но странное дело, таланты…
– Что до талантов! Хотя бы принцип представляли. Принцип изящной формы. Мы, глядишь, посмотрели и усвоили бы его… А то ведь нам не то жратву добывать (граф сделал гримасу; «Извините за вульгарное слово», – с насмешливым поклоном заметил Тутолмин), не то «сущность» ловить, где-нибудь в самой что ни на есть «бесформенной» деревушке… Где уж тут до Парфенона-с!.. А вы бы нас и научили, изящные-то люди…
– Но у вас есть образцы…
– Есть, это верно. А если…
– Но вы не понимаете своих выгод, – сказал граф, – вы выходите на битву без лат… Вы забываете, что форма то же оружие… Гейне…
Тутолмин встал во весь рост.
– Выхожу с открытой грудью и горжусь этим, ваше сиятельство, – почти закричал он, – мне некогда было сковать мои латы, да еще вопрос: пригодны ли они для нашей битвы… Но я не шляюсь по курортам… не изнываю по музеям в томительной чесотке… не транжирю мужицких денег на так называемое «покровительство» изящных искусств, до которых мужику такое же дело, как нам с вами до китайского императора…
Варя с упреком посмотрела на него. Тогда он круто оборвал и раздражительно взялся за шапку.
– До свиданья-с! – проронил он.
– Куда же вы? – воскликнули все хором. Один граф молчал и обводил его растрепанную фигуру юмористическим взглядом.
– Не могу, у меня есть дело, – охрипшим голосом вымолвил Илья Петрович и, неловко поклонившись, направился к выходу. Варе вдруг стало ужасно жаль его. Она наклонилась к графу и, прошептав ему несколько слов (из которых он понял, что ей до конца хочется соблюсти долг любезной хозяйки), поспешно догнала Илью Петровича. Он уже натягивал пальто. В передней никого не было.
– Милый мой, что же это такое? – в тоскливом недоумении воскликнула Варя, бросаясь к нему. Он грубо отвел ее рукой.
– Ступайте! Поучайтесь у этой шоколадной куклы изящным искусствам! – задыхаясь от гнева, сказал он.
Варя побелела как снег.
– Илья! – воскликнула она с упреком. Но он сердито распахнул дверь и скрылся. Варя стояла подобно изваянию. Все в ней застыло. И холодное, тупое, жестокое настроение медленно охватывало ее душу. Она провела рукою по лицу; хотела вздохнуть, улыбнулась блуждающей и недоброй улыбкой и тихо возвратилась в гостиную. «Как ты бледна, моя прелесть!» – сказал граф, когда она с какой-то осторожностью села около него. Но она взглянула на него рассеянным взглядом и ничего не ответила. Руки ее холодели.