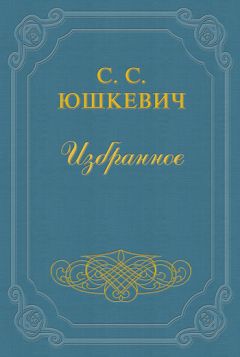– Он не понимает! – жестко передразнил Лейзер.
– А события понимаете? – вскипел Эзра. – Хватает у этого вас для вашей ничтожной головы, вашего ничтожного сердца? Да отвечайте же, или я вам в лицо плюну! Что скажете теперь? Дождались? Отвечайте же, где ваша родина?
– Где ваша родина? Выложите-ка на стол? – подхватил Лейзер.
А Файвель, глядя свирепо на Нахмана, точно тот был виновником событий, сердито спрашивал:
– Что скажете на несчастного еврея?
– Я не могу так разговаривать, – отозвался Нахман тихим голосом, – вы готовы побить меня. Но… в семье дерутся, помирятся…
– Что он сказал! – крикнул Эзра, затрясшись от негодования, – он сказал: в семье? Собираются грабить, убивать… Вы знаете, – с силой произнес он, повернувшись вдруг к Нахману, – чья вина наших несчастий? Не знаете? Ваша! У вас не заговорило сердце от ужаса? Ваша, слышите? Вы, равнодушные, изменившие своему народу, – вы подготовляете и вызываете грабеж… Вы этого не знали? Невинные… Вы, вы… Вы потеряли все, что связывало вас с народом, и вы больше наших врагов желаете, чтобы евреи исчезли. Вас камнями забросать нужно!
– Эзра, нужно же перестать, – вмешался Даниэль.
– Ваша родина здесь? – не унимался Эзра, мигая больными глазами. – Скажите, где? Покажите место в этой огромной стране, где мы не страдали бы за то, что мы евреи. Покажите наследство… Десять столетий мы живем здесь, где ступала наша нога, – все расцветало. Мы оживляли деревни, города, мы вносили ум, мы подавали пример доброй семейной жизни, нашей трезвостью, каждый дикий уголок страны впитал пот наших трудов, мы боролись с невежеством, мы проливали кровь за страну… Где наследство от трудов десяти столетий? Миллионы людей приносили благо стране, – что дали нам взамен? Это знает каждый мальчик… Взамен нас били, грабили, убивали и ежедневно выдумывали новое наказание, согнали нас в черту, точно не они, а мы, святые работники, были волками для людей. Одним сильным словом, нас тысячами выгоняли из насиженных мест в городах, – кто сосчитает, сколько слез мы пролили за добро, принесенное стране? И страну, где ваш народ живет вне закона, вы называете родиной? Стыд вам.
– Бейте словами этих подлецов! – прорвался Лейзер, сверкая глазами. – Плюньте ему так в лицо, чтобы всю жизнь он не мог смыть этого пятна… «Рабами мы были у фараона в Египте, и Бог сильной рукой вывел нас из него». И эти грязные уста с легким сердцем будут произносить драгоценные слова надежды…
Теперь Нахман словно во тьме очутился. Он чувствовал, как яд и правда этих речей проникают его и возбуждают ненависть новую и злую к насильникам. Десять столетий святой жизни! Разве он знал об этом? Евреи! Кто они были – рабочие, лавочники, торговцы бедняки? Святые мученики! И он, пораженный, слушал, не имея что ответить на этот высший крик о страдании народа.
– Вы не хотели вдуматься, Нахман, – мягко выговорил Даниэль.
– Я говорю, – встрепенулся Нахман, – что родина здесь… Десять столетий дают нам право на это… Здесь мы будем бороться. Настанет день, когда мы, с «ними» же, взявшись за руки, скажем громко в один голос…
– Выгоните его, Даниэль, – крикнул Лейзер, – или кончится худо! Его слова режут меня, как ножи.
– Кто возьмет вашу руку? – подхватил Эзра. – Чернь? Но я хочу, чтобы ваша голова думала. Вы должны теперь думать, а не отговариваться словами, – ваша жизнь поставлена на карту… Отвечайте, с кем вы будете работать рука об руку?
– Вот так хорошо, – пробормотал Даниэль, – это к делу. Я бы, – прибавил он неожиданно, как будто все время только и собирался об этом сказать, – жизнь отдал, чтобы избавить нас от страданий. А вы, Нахман, холодны… Вы холодны, как самый холодный камень. Завтра пойдет плач по городу… Приложите, Нахман, руку к своему сердцу.
– Но что я вам могу ответить? – с отчаянием вырвалось у Нахмана – Вы вините меня… за что? Разве я хочу зла народу?
– Так делайте добро, – сердито произнес Фейвель. – Вы еврей – за народом идите! Не отставайте от него, как теленок от матери…
– Вы напрасно вините меня, – опять повторил Нахман, глядя на каждого в отдельности. – Я знаю одно: у несчастных всех одна дорога…
Его снова остановили, возразили, и ненависть росла между ними. Сыны одного народа, они стояли друг против друга, как враги, и был в этом символ какого-то высшего несчастья, когда одно горе не рождало одного усилия.
– Послушайте, – говорил Нахман, я знаю наших врагов. Я вырос с ними, работал с ними… Я знаю, как они живут, как думают. Они не злы, и у них нет ненависти к нам. Я видел… Так же тяжела их жизнь, как наша, так же они измучены, так же задыхаются под гнетом. Я только что от Шлоймы… Он сказал: не враг, но брат идет на нас, – и в этом правда. Мы дети одних страданий, одной ненависти… Теперь их натравили на нас, – будем защищаться, будем храбрыми. Но кто знает? Может быть, завтра мы вместе с ними поднимем руку на врага…
В тоне его уже слышалась уверенность. Как будто враги ослабевали, и он видел победу своих. Вот вышли рабочие… Со всех сторон – из фабрик, из заводов, из домов-лачуг показались они… Они выступали медленно, озираясь, они еще колебались… Вот вышли рабочие, – христиане, евреи и другие, они соединялись, строились в ряды…
– Вы видите, – с ненавистью кричал Лейзер, – вы видите…
– Я вас не узнаю, – произнес Даниэль, обращаясь к Нахману и не поднимая глаз на него, – пусть все правда, что вы сказали, – теперь не время говорить об этом. Теперь осталось одно: плакать о родине, плакать о беззащитности, плакать о нашей несчастной судьбе… Перестаньте, я умоляю вас. Если бы вы знали, как я, что делается в городе!
Он оборвался, и от этих простых, ясных слов отчаяния все вдруг смирились…
Опять стояли родными несчастные сыны вечного народа… Снова они жили вне закона в стране-мачехе и с одним чувством думали о завтрашнем дне…
Вечером евреи сидели за пасхальным столом и уныло читали: «Рабами мы были у фараона в Египте и Бог сильной рукой вывел нас из него»…
Во всех домах царили ужас и смятение. Снова предстояли тяжелые дни испытаний, снова наступали черные дни гонений, снова страница истории должна была быть запятнанной кровью невинных людей… И так в страхе и молении, в ужасе и слезах проходили чистые, светлые дни Пасхи, и не было одного сердца в городе, которое не трепетало бы от предчувствий…
Не ночь – день Варфоломея быстро приближался…
Погром начался…
В воскресенье, шестого апреля, ровно в два часа дня, банды простонародья, имея впереди себя отряд мальчишек, пьяные и злые, создали начальный шум, который должен был заглушить в них последнее чувство жалости к людям и понимание своих действий. Звуки разбиваемых камнями стекол были первыми, что разорвали преграду напряжения и ужаса минуты, – были первыми словами таинственного языка, призывавшего к насилию, словами могучими, убедительными, повелительными… И воистину грозный, воистину страшный крик пронесся по городу:
– Бей жидов!..
Погром начался…
Окруженные любопытной праздничной толпой и направляемые невидимыми вдохновителями, насильники ворвались в первые еврейские дома, и плач и вой потерявшихся от ужаса людей залил улицы всеми человеческими стонами. И этот плач, точно клятва в слабости, прозвучал как сигнал, и погром забушевал… Подобно обезумевшим от ненависти, подобно мстителям за долгие годы мучений, насильники вбегали в дома нищеты и, слепые от гнева, от радости, от возбуждения набрасывались на добро… Они разбивали двери, окна, ломали мебель, посуду, выпускали перья из подушек и, захватив все, что можно было унести с собой: деньги, платья, – летели дальше среди одобрений толпы. Они летели, как демоны в своих оборванных одеждах, летели, страшные, нося в себе жажду разрушения, искоренения тех, в ком видели нечистых, врагов, – которых считали теперь истинными, виновниками своей несчастной жизни. Пьяные и трезвые, с лицами, дышавшими злобой, победой, казалось, они уже осязали руками мечту о хорошей жизни, спокойной, обеспеченной, которая сейчас воцарится, как только они уничтожат евреев. Они забыли о дружбе, в какой жили с евреями, они забыли о собственном гнете, истинных виновников этого гнета, – они видели только врага, которого им указали: еврея, евреев… И чувствуя только ненависть к евреям, которую еще в детстве им привили, и беспощадный гнев, минуя несчастную жизнь бок о бок с евреями, они с изуверством, бешенством, точно настал последний день мира и другого не будет, разбивали и уничтожали все, что попадалось им в руки. Они ничего не щадили, и мольба и крики не трогали их. С каждым часом безумство разрушения нарастало, и теперь насильники терпеливо оставались в домах и ломами, топорами, не спеша, взрезали, разбивали, разрушали жалкое добро несчастных жертв…
Погром бушевал, погром разрастался… С изумительной быстротой, как пламя в бурю, разносилась по городу страшная весть, и евреи, побросав свои жилища, с плачем и ломанием рук, обнимаясь и прощаясь, спасали свою жизнь. Они прятались в погребах или у христиан, если те принимали их, – на чердаках, в отхожих местах, на крышах, в конюшнях, и покорные, как всегда, не смея думать о борьбе, выбегали на улицы…