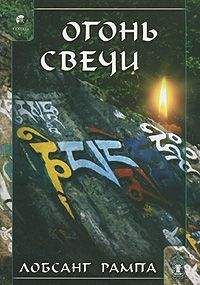Раздался звонок в дверь. Глаша пошла открывать. Через минуту она постучалась в кабинет к Борису Аркадьевичу, где тот спешно заканчивал перевод на немецкий собственной статьи. На серебряном подносике для почты горничная подала небольшой сверток. Все еще погруженный в свои формулы, приват-доцент взял пакет, рассеянно поблагодарил девушку и забыл о нем. Лишь поставив последнюю точку в переводе, он вспомнил о пакете. Внутри оказалось письмо – Борис сразу узнал угловатый почерк Лао – и склянка, заполненная серебристым, похожим на ртуть, веществом. Только, в отличие от ртути, вещество в склянке, похоже, ничего не весило. Приват-доцент впился глазами в письмо.
«Я знаю, что Вас терзают сомнения, господин Беляев, – писал Лао. – Дабы укрепить Вашу решимость, я решил представить Вам еще одно доказательство. Теперь Вы у себя дома и не можете подвергнуться никакому гипнотическому внушению, следовательно, все, что Вы увидите, не может быть ловкой мистификацией, в коей Вы меня, вероятно, подозреваете. В руках Вы держите флакон из обыкновенного стекла, но заполнен он аппергитом – жидким металлом, который отталкивается любыми массивными телами, в том числе и планетами Солнечной системы. Аппергита ровно столько, чтобы уравновесить тяжесть флакона; таким образом, то и другое вместе не имеет веса. Все наши летательные аппараты заключают в себе резервуар, наполненный достаточным количеством аппергита. Нам остается лишь придать всей этой невесомой системе надлежащую скорость. Для чего мы с успехом применяем принцип реактивного движения, открытый также и у вас, в России, Циолковским. Надеюсь, теперь Вам довольно доказательств? Лао».
Борис посмотрел на стеклянный флакон с невесомой металлической жидкостью, лишь блеском схожей с ртутью. Странным образом эта жидкость, наполнявшая не больше трети флакона, находилась не на дне его, а в верхней части, под самой пробкой. Борис перевернул флакон, и жидкость перелилась ко дну, то есть опять была наверху. Борис выпустил склянку из рук, и она повисла в воздухе. Это было невероятно, но несомненно. Насколько Борис Аркадьевич Беляев разбирался в физических явлениях, никакой фокус не мог заставить наполненную склянку повиснуть в воздухе. Да и пустую – тоже.
Он положил письмо и флакон обратно в пакет, спрятал его в карман и направился в гостиную, где молодая супруга не слишком охотно занималась музицированием.
– Аня, я должен тебе сообщить одну очень важную вещь, – сказал Борис, решив, как можно дольше в разговоре придерживаться правдоподобия.
– Да, милый, – как всегда ласково откликнулась молодая супруга, охотно закрывая рояль. – Я тебя слушаю.
– Завтра я уезжаю в научную командировку…
– Вот как? Надолго ли?
– Пока не знаю точно… – произнес он, все еще балансируя на грани правды. – Зависит от условий наблюдений… Ты же знаешь, как мы, астрономы, зависимы от погодных капризов. Может быть, всего на несколько дней, а может, быть, и на целый месяц.
– Целый месяц без тебя – это было бы ужасно, – со вздохом проговорила Аня, разумеется, не веря в столь длительную разлуку. – А куда? На юг? На север?
– Если бы на юг, родная, я бы обязательно взял тебя с собой, – искренне ответил он. – Увы, я еду к Белому морю… К дяде Мише, наблюдать полярные сияния…
Рубикон, отделяющий полуправду от прямой лжи, был перейден.
– Хорошо, что к дяде Мише! – обрадовалась Аня. – Он будет о тебе заботиться. Передай ему, чтобы непременно навестил нас летом.
– Обязательно передам, родная моя, – сказал Борис, чувствуя себя последним подлецом.
Далекие башенные часы пробили пятый час утра. Пора было собираться. Поезд от Финляндского вокзала отходил в восемь, и не меньше часа нужно было потратить на дорогу по заснеженным, плохо расчищенным из-за непогоды улицам. На сборы и прощание с женой оставалось всего каких-то два часа. Борис задул свечу и на цыпочках выбрался из спальни. Глаша должна была прийти не раньше девяти, но в буфете с вечера была оставлена холодная телятина, сыр, масло и французские булки. Сварить кофе приват-доцент умел и без помощи горничной. Он охотно занялся этим, радуясь простым, будничным движениям, стараясь не думать о том, что впереди. Едва в турке вскипел кофе, в кухню вошла сонная Аня. Приобняла, уткнувшись припухшим со сна носиком мужу в плечо. Борис поцеловал супругу в теплый висок, задохнувшись от пряной сладости ее волос. Сердце заныло от тоски и неясного предчувствия, но он взял себя в руки.
– Умывайся, ласточка моя, – пробормотал Борис. – А я пока накрою на стол.
Аня вернулась из туалетной комнаты свежая, причесанная, благоухающая ароматными притираниями. Стол был сервирован несколько неуклюже – куда приват-доценту до горничной! – но госпожа Беляева пришла в умиление. С чувством расцеловала мужа, и завтрак перед расставанием начался. За бутербродами и кофе они болтали о пустяках, вспоминали праздники, катание с горки, смеялись, пародируя напыщенные речи ассистента кафедры Астафьева, которые тот страстно любил произносить во время застолий. Борис за разговором украдкой поглядывал на часы. Аня словно и не замечала этого, пересказывала прочитанное за последнее время, декламировала строфы стихотворений, особенно ее впечатливших:
Унесемся в переливы
Блеска огненных миров,
Пролетим сквозь все извивы
Междузвездных облаков.
Пусть они гирляндой тесной
Окружают нас вдали,
Улетевших в мир небесный
С обездоленной Земли…
– Кто это написал? – спросил Борис, излишне резко для такого утра.
Аня посмотрела на него с испугом, пробормотав:
– Николай Морозов… Бывший шлиссельбуржский узник. А что?
– Замечательные строчки… – не сразу отозвался Борис. – Я бы сказал, астрономические…
– Я знала, что тебе понравится, – с улыбкой произнесла Аня. – Возьми его книжку в дорогу…
– Да, пожалуй, – сказал он и уже открыто посмотрел на циферблат «луковицы». – Мне пора, милая…
Аня сразу поскучнела, глаза подозрительно заблестели. Борис порывисто обнял ее.
– Мне так тебя будет не хватать… там… – прошептал он.
– А мне – тебя, – откликнулась она. – Возвращайся поскорее…
– Я буду спешить к тебе изо всех сил…
Он крепко поцеловал жену, решительно отодвинул от себя и принялся одеваться. Поклажа для дальнего путешествия была уложена загодя. Дворнику Василию еще с вечера велено найти к половине седьмого утра извозчика. Одетый, как заправский полярный исследователь, Борис уже на пороге еще раз поцеловал жену. Она вцепилась в его медвежью шубу, прижалась, резко отстранилась, перекрестила и ушла к себе в комнату – не хотела видеть, как за любимым закроется дверь. Борис проводил ее взглядом, вздохнул, подхватил баул с пожитками, вышел на парадную лестницу, тщательно запер дверь и спрятал ключ в ладанку на груди.
Лошадка, кивая мохнатой от инея мордой, почти не понукаемая зверообразным «ванькой», споро повлекла седока по пустынным по раннему времени улицам. Громадный город дышал холодом. В лучах уличных фонарей серебрились морозные блестки. Дворники шаркали деревянными лопатами, освобождая тротуары от снега. Приказчики снимали с витрин магазинов и кофейных ставни. Брякали колокольцы встречных упряжек. Образ едва сдерживающей слезы жены сопровождал приват-доцента Беляева до самого вокзала, но под его чугунными сводами вдруг съежился, спрятался в потаенном уголке сердца. Надвинулось предвкушение предстоящего приключения. И усевшись в вагон, Борис уже мысленно торопил машиниста, словно тот нарочно задерживал отправление состава. Наконец, прозвенел колокол, паровоз засвистел по-разбойничьи, напряг железные жилы и с трудом сдернул примерзший к рельсам состав.
Примерно на середине пути Борис вспомнил, что забыл письма Лао и склянку с аппергитом в кармане домашнего сюртука. Почувствовал мгновенную досаду от непредсказуемости последствий своей забывчивости, но поразмыслив, решил, что Аня вряд ли прикоснется к его домашней одежде до его возвращения. Да и в кабинет заходить не станет, боясь спугнуть едва уловимые следы присутствия любимого. Склонная к поэтическому видению вещей, Аня любила милые пустяки, связанные с приятными воспоминаниями, не в силах расстаться даже с сосновой шишкой, подобранной на прогулке во время летнего отдыха в Комарово.
«Милая ты моя, родная, – думал Борис, глядя в слепое, заиндевевшее окно вагона. – Прости, что пришлось тебя обмануть… Прости, что отправляюсь в такую даль, откуда, может быть, нет возврата… В одном я тебе не солгал, покуда жив, буду спешить к тебе изо всех сил… Весь Марс, со всеми его чудесами, не заменит мне тихого чуда твоих глаз…»
Он не заметил, как задремал под мерный перестук колес, привалившись плечом к стылой вагонной стенке. Разбудил его простуженный голос кондуктора: