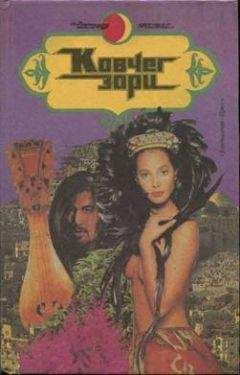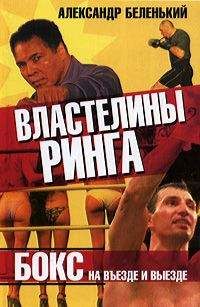Все в этом месте снисходительно улыбнулись на капитанову прямоту.
– Согласитесь, дружок, – сказал Пальчиков просто, – что с такой программой нельзя воевать. На той стороне русских больше, чем у нас англичан. Вы поднатужьтесь, милый, подумайте… а то ведь солдаты смеяться станут!
– Я, может быть, и дурак… – задыхаясь и вытирая испарину, ответил Егоров, – но я делаю то, что велят мне совесть и бог… – Он смолк и стоял одиноко, как на расстреле, и никто не смел прийти к нему на помощь перед лицом иронического поручика. – Да, именно совесть и бог…
– Он даже и в бога верует! Фу, какая роскошная жисть… – решив примкнуть к сильнейшему, снова хихикнув прапорщик и немедленно осекся.
Подняв кулаки над головой, капитан шатко двинулся к прапорщику; однако, не дойдя двух шагов, он остановился и стоял с закрытыми глазами.
– Молчать! – гаркнул он, как в строю, но крик его одинаково походил и на всхлип; вслед за тем он медленно пошел к двери. Делая знаки, чтобы все молчали, Краге обеспокоенно поспешил за ним.
Ситников едва успел спустить граммофон в углу, как тот вернулся.
– Ну, вот, и рассказывать стало некому. Смутил парня… И день-то выбрал, чертила! – упрекнул он Пальчикова. – Ведь он именинник нынче, на именины ты попал…
– Кстати, он очень познакомиться с тобой искал… – укоризненно прибавил и Ситников.
Они видели, что именины Егорова для него пустяки, не заслуживающие даже обсуждения, и ждали каких-нибудь оправданий. Поручик медленно обвел их глазами; ему хотелось внушить им, что с падением Няндорска начинается новая эра в существовании страны, где им уже не будет места; хотел сказать, что красным уже дан приказ взять город до двадцатого числа, потому что валандаться далее на этом комарином фронте и впрямь бессмысленно… но он взглянул в тусклые глаза тучного Мишки, в квадратное сердитое лицо Краге, на парикмахерский завиток Ситникова и понял, что поражение этих людей принесет стране меньший вред, чем их победа.
– Простите, господа, я испортил вам вечер. Но я вообще не компанейский человек!.. – Он подошел к окну и раздвинул штору. Таинственно курясь, белая ночь вступила в комнату. По безлюдным улицам протянулись слабые и длинные тени строений. Тишина ночи пленяла, как наваждение, но окно в низшем этаже было раскрыто, и оттуда бестолково неслась английская песня «Tipperary». Должно быть, в этом унывном мычанье и выражалась завоевательская тоска по родине. – Белая ночь, господа… вот в чем дело! – дрогнувшим голосом произнес Пальчиков, но никто не уловил скрытого смысла его замечания.
И он уже собирался покинуть комнату, когда прапорщик Мишка предложил отправиться всей компанией к Анисье Крытых, мириться и гулять. Из его слов получалось, что в укромном этом месте даже огонь с водой можно помирить. Пальчиков прислушался и, решив не увертываться от волны, которая его захлестывала, изменил намеренье.
– Кстати, там наверняка и Егорова найдем. Больше ему идти некуда, – сообразил Ситников. – Эй, инглишмен, каман к Анисье! – Тот безнадежно открыл глаза, но дальше своих зрачков, кажется, не видел ничего.
В настроениях крайне прохладных и подавленных они спустились в раздевалку.
– Эх, маркиз… – сказал Краге поручику при выходе на улицу, – не удивлюсь, если и застрелился теперь Егоров. Он такой, – он, если горлышко у графина отбито, так и остатки о пристенок бьет. Жить ты не умеешь! Брал бы пример с меня: до сорока двух лет дожил и со всеми во всем согласен… Вот как надо жить!
В темной прихожей у Анисьи пахло квасом и монастырем; это привлекало и настраивало на особый полудомашний лад. Все пятеро толпились в сенях в ожидании хозяйки; при этом прапорщик Мишка наступил на что-то ногой, и в темноте зашипело. Он испуганно отдернул ногу, утерял равновесие и почти повалился на Пальчикова.
– Что у вас там? – осведомился поручик.
Присев на корточки, толстый Мишка шарил руками по полу:
– Тряпка… наверно, мокрая тряпка, господин поручик. Я на нее наступил!
– Она вас укусила? – с холодком спросил поручик и, не дожидаясь ответа от посрамленного Мишки, первым открыл дверь в Анисьино обиталище.
Его ударил свет большой керосиновой лампы, подвешенной к потолку и украшенной абажуром из зеленой пропускной бумаги. Волчий тулуп, криво распятый над окном, защищал Анисьиных гостей от уличного любопытства надежнее, чем армия филодендронов, франциссей и столетника, которым мещане лечатся от чахотки. Еще стоял тут комод красной фанеры, а на комоде, сквозь вязаную белую накидку, виднелась колода замусоленных карт. С наивным достоинством соблюдался этот дом, и, хотя он был попросту питейным заведением, на столе висел лубок – Д е м о н в в о д к е и т а б а к е.
Егорова тут не было, но зато какие-то два молодых человека – один из них военный – сидели тут, и, войдя, Пальчиков услышал, как один советовал другому не мешать эфир с кокаином. Узнав Пальчикова, они быстро поднялись и с поклоном удалились в соседний чуланчик, где и пропали на всю ночь. Вслед за Пальчиковым вошли и остальные, сопровождаемые самой хозяйкой. Тут-то Пальчиков и разглядел ее.
В этой умной и упругой бабе было что-то от анисового яблока: одинаковые неприхотливость, цвет и, наверно, вкусовая кислинка. Вряд ли она когда-нибудь обольщала, но раз познавшему ее трудно было бы сбежать от нее на волю. Нестарая, она ухитрилась три раза побывать замужем, – три серебряных кольца, воспоминанья о покойниках, втесную ютились на ее пальце. Наверное, незавидная доля была у этих трех Анисьиных супругов, которых она в разное время держала, как петухов, при своем хозяйстве.
Пальчиков поймал на себе ее совиный, изучающий глаз, и тотчас же она отвернулась идти за хвалеными своими дарами. Скоро на столе явился плечистый кувшин-самохвал, глиняные кружки и уйма всяких квашений и маринадов, распускавших вокруг себя цветистые запахи – то лесной прели, когда пора вылезать петрову кресту, то свежего укропа или копытня, то меда и хмеля, то самого июньского ветра, когда лишь зацветает дрок на лугах. На всем, что она ставила на стол, лежал отпечаток заботливости и уменья: звездчатая морковь и рядки брусники, алой, как тетеревиная бровь, украшали шинкованную капусту, а гриб даже и в свирепом отваре сохранял свой первобытный лесной цвет… Обдернув камчатную скатерть, она присела на укладку, простеленную чистым половиком, и молча наблюдала гостей, готовая к услуге и пахнущая травами.
Никто не знал ее секретов, она варила брагу по стародедовским заветам, и, право, слава ее была заслуженна. Дразня и не насыщая, оно вливалось прямо в душу, это колдовское снадобье, и стоило глотнуть его разок, чтоб навсегда остаться подверженным темной Анисьиной власти. В пропадающем городе, где всякое мечтание упиралось в грозные думы о завтрашнем дне, Анисья обладала могуществом не меньшим, чем Пальчиков.
За виночерпия трудился прапорщик Мишка, но еще прежде, чем он успел ублаготворить всех, явился Егоров с двумя сестрами Градусовыми.
– Так и знал, что вы здесь. А я вот зазнобин своих приволок… – пошумел он, и незаметно было, чтоб он собирался ударить о пристенок свой обезгорленный графин. Барышни жеманились, согласные на все, лишь бы развлечь свои тонкие девичьи будни. – Кати-Лена, садись за хозяек! – Катей звали младшую.
Сестер Градусовых капитан рассадил так, что Катя оказалась рядом с Пальчиковым; его попытка проявить незлопамятность к обидчику своему еще больше раздражила поручика. При каждом ее движении до Пальчикова доносился тошный женский запах, которого не могли отбить ни табак, ни душистое мыло.
– А я вас знаю… – сразу призналась она, хохоча и сверкая жемчужной россыпью зубов. – Знаете, тот гимназист, который полковника застрелил… это он из-за меня его застрелил! Его тоже расстреляют, Женю… да? – Ее забавляло приключение с английским полковником. – А, знаете, вы совсем не страшный…
– Мерси, душечка, – скривился весь Пальчиков, вспомнив приказ о репрессиях. – А скажите, душечка, вы часто моетесь?
Она не поняла, высоко задрала брови и кокетливо толкнула поручика.
– Ленка, – громко сказала она сестре, – а он за мной уже ухаживает! – Лишь после милого этого хвастовства она улыбнулась и поручику. – Ну конечно, моемся… Только, знаете, зимой как-то холодно, а летом некогда…
– Чем же вы летом-то заняты? – издевался поручик, как в чаду соображая, что весь его нынешний день, полный ссор и столкновений, походит на предсмертную судорогу.
– А летом мы в о з д у х и вышиваем с сестрой. Знаете, при богослужении платки такие. Мы обещания дали с сестрой по сотне вышить, но только сейчас золота такого нет… – Она была все же недурна, и явная глупость ее сходила за очаровательное легкомыслие. – А я сегодня без корсета! – совершенно неожиданно призналась она.
– Ай, как нехорошо… – с ненавистью сказал Пальчиков.
– А я всегда, когда в плохом настроении, то без корсета…