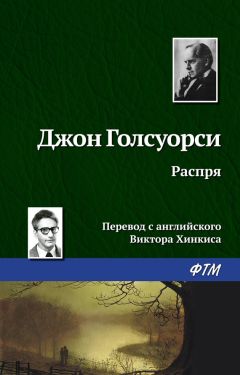Вдова, которая жила неподалеку и обычно оказывала немудреную помощь в подобных случаях, вышла из комнаты, а Бауден, пока девушка читала, присел на низкий стул у оконца. Стоять ему было неудобно, так как он касался головой потолка. Ее грубая рубашка, обнажив шею, сползла с сильных плеч, черные, потерявшие блеск волосы рассыпались по подушке; он не видел ее лица, заслоненного письмом, но слышал, как она вздохнула. И ему стало жаль ее.
– Что это ты, ведь радоваться надо, – сказал он.
Уронив письмо и взглянув ему в глаза, девушка сказала:
– Нет, это мне ни к чему; Нед меня больше не любит.
Какая-то невыразимая тоска была в ее голосе, какое-то смятенное, ищущее выражение в темных глазах, так что Баудену стало не по себе.
– Не горюй! – пробормотал он. – Вон у тебя какой ребенок, прямо богатырь, уж его-то у тебя никто не отнимет.
Подойдя к кровати, он пощелкал языком и протянул ребенку палец. Сделал он это нежно, словно всегда умел обращаться с детьми.
– Настоящий маленький мужчина.
Потом он взял письмо, чувствуя, что «незачем оставлять ей этот козырь против Неда, если он вдруг передумает, когда благополучно вернется домой». Но, выходя за дверь, он увидел, как Пэнси дала ребенку грудь, и снова ему стало не по себе, словно жалость кольнула его. Кивнув вдове, которая сидела на пустом ящике из-под бакалеи около слухового окна и читала старую газету, Бауден по винтовой лестнице спустился в кухню. Его мать сидела у окна, греясь на солнце, и ее блестящие темные глазки быстро бегали на лице, покрытом сетью морщинок. Бауден постоял немного, глядя на нее.
– Ну, бабка, – сказал он, – теперь уж ты прабабкой стала.
Старуха кивнула и, потирая руки, чуть скривила губы в улыбке. Баудена вдруг охватил ужас.
– В этом нет никакого смысла, – пробормотал он себе под нос, сам хорошенько не зная, что он хотел этим сказать.
Бауден не пришел в церковь три недели спустя, когда ребенка окрестили Эдуардом Бауденом. В это июньское утро он повез продавать на рынок бычка. Коляска ехала медленно, под тяжестью бычка она осела и вся тряслась. Хотя жизнь и приучила Баудена к этому, он никогда не мог равнодушно отнимать телят у матерей. Он питал к скотине странные чувства, жалел ее больше, чем людей. Он всегда бывал мрачен, когда в коляске у него за спиной покачивалось крепко связанное маленькое рыжее существо. Оно вызывало в нем какую-то душевную теплоту, как будто некогда, в прежней своей жизни, он сам был таким вот рыжим бычком.
Когда он проезжал через деревню, кто-то окликнул его:
– Эй, слыхал новость? Вчера утром наши задали немцам хорошую трепку.
Бауден кивнул. Вести с войны были теперь для него лишь напоминанием о том, что этот негодяй Стир отнял у него Неда, лишил его опоры. Конечно, думал он, когда-нибудь война кончится, но пока что-то конца не видать нынче они там гонят немцев, завтра немцы гонят их, а тут тем временем вводят то один закон, то другой, все насилуют землю. Не знают они, что ли, эти чурбаны, что землю нельзя насиловать? Стир, конечно, тоже ее насилует – сеет пшеницу там, где она не может расти, – уж это всякий скажет.
День был жаркий, дорога пыльная, а потом этот сукин сын Стир весь день околачивался на рынке, и поэтому Бауден перед тем, как ехать домой, крепко выпил в «Драконе».
Когда он вошел в кухню, ребенок, уже окрещенный, лежал в тени, в деревянном ящике, куда ему подложили подушку и платок, а старая миссис Бауден сидела на солнце и шевелила руками, как будто что-то ткала. Овчарка Баудена положила морду на край ящика и принюхивалась, словно хотела увериться, что в ребенке действительно произошла какая-то перемена. Пэнси встала и хлопотала по хозяйству. «Она, видно, оправилась, но все еще бледна и слаба», – подумал Бауден. Он постоял около ящика, разглядывая «богатыря». Ребенок не был похож на Неда и вообще, насколько Бауден мог судить, ни на кого не был похож. Вдруг он открыл большие серые глаза. А вот у Стира никогда не будет внука, пусть даже незаконнорожденного. Бауден пощелкал языком, чтобы позабавить ребенка, и овчарка ревниво ткнулась белой косматой головой ему в руку.
– Но-но, – сказал Бауден. – Ты что это?
Он вышел из кухни. Солнце уже садилось. Он решил пойти взглянуть на свою скотину, которая паслась на кочковатой пустоши за полями, и собака увязалась за ним. По дороге он присел на камень среди молодых папоротников и дрока, который еще не зацвел. Вечер был так хорош, что и словами не описать, солнце стояло уже низко, и его волшебный свет стал словно бы одушевленным, подвижным, и струился сквозь зелень ясеней, боярышника и папоротников. Один куст боярышника рядом еще был причудливо убран нежными цветами со сладким сильным запахом; круглые молочно-белые плоские цветки бузины сверкали в искрящемся воздухе, а рябина в овраге уже отцвела и покрылась бурыми неровными ягодами.
Во всем чувствовался волшебный переход от одного времени года к другому, даже в голосе кукушки, которая, как стрела, взлетела на акацию, росшую у края каменистой лощины, и пронзительно закуковала. Бауден пересчитал скотину и полюбовался, как блестят на солнце рыжие шкуры. Его клонило ко сну от жары, от выпитого сидра, от жужжания мух среди папоротников. Он безотчетно наслаждался глубоким и чувственным покоем, теплом и красотой. Нед пишет, что там совсем нет зелени. Просто не верится! Нет даже травы – и кролику не прокормиться; ни вьющегося, похожего на гусеницу, молодого побега папоротника; ни зеленого дерева, на которое села бы птица! И это Стир послал его туда! Мысль эта пронеслась сквозь дрему, хлопая черными крыльями. Стир! У него нет сына, чтоб воевать, он знай себе денежки наживает! Баудену подумалось, что сама злобная судьба покровительствует этому сквалыге, который даже выпить как следует себе не позволяет.
Голубые цветы вероники и молочая в изобилии росли среди жесткой травы, и Бауден, быть может, в первый раз в жизни заметил эту маленькую естественную роскошь, которой Стир лишил его сына, послав его туда, где не растет даже трава.
Наконец он встал и медленно пошел обратно той же дорогой, по тропе, обильно удобренной засохшим навозом его коров, а бесчисленная мошкара роилась вокруг цветов бузины и среди листвы ясеней. Когда он вошел во двор, из дома как раз выходил деревенский почтальон. Он остановился в дверях и повернул к Баудену седую голову с красным лицом и черными глазами, щурясь от света заходящего солнца.
– Вам телеграмма, мистер Бауден, – сказал он и ушел.
– Что такое? – равнодушно буркнул Бауден и поднялся на крыльцо.
Нераспечатанная телеграмма лежала на кухонном столе, и Бауден удивленно, уставился на нее. Ему не часто приходилось получать такую корреспонденцию – может быть, всего раз пять за все пятьдесят с лишним лет его жизни. Он взял телеграмму так, как, вероятно, взял бы птицу, которая может клюнуть, и распечатал.
«С глубоким прискорбием сообщаем, что ваш сын пал в бою седьмого числа сего месяца. Военное министерство».
Он перечел телеграмму снова и снова, а потом тяжело сел, уронив ее на стол. Его круглое бесстрастное лицо казалось слепым и застывшим, рот был чуть приоткрыт. Подошла Пэнси и встала рядом с ним.
– Вот, – сказал он. – Прочти.
Девушка прочла телеграмму и схватилась за голову.
– Теперь уж ничем не поможешь, – скороговоркой пробормотал он.
Ее бледное лицо вдруг покраснело; она тихонько заголосила и выбежала из комнаты.
Теперь в чисто выбеленной кухне все было мертво и неподвижно, только раскачивался маятник часов да без устали бегали глаза у старой миссис Бауден, сидевшей под геранью, у окна, там, куда солнце бросало последние лучи, скрываясь за домом. Тикали часы, минута проходила за минутой. Наконец Бауден зашевелился, – его голова поникла, плечи опустились, колени разъехались. Он встал.
– Будь проклят во веки веков этот сукин сын Стир, – медленно произнес он, снова беря телеграмму. – Где моя палка?
Неуверенно, как слепой, он обошел кухню и вышел во двор. Старуха следила за ним своими блестящими глазками. Пройдя через старые ворота, он побрел по дороге к ферме Стира, медленно поднялся на две ступеньки, перелез через ограду и очутился на дворе фермы.
– Хозяин дома? – спросил он у мальчика, стоявшего около коровника.
– Нет.
– А где он?
– Еще не вернулся с рынка.
– Ага, он прячется, прячется от меня!
И Бауден повернул назад по дороге. В ушах у него стояло монотонное жужжание, ноздри раздувались, ловя вечерние запахи – запах травы, коровьего навоза, сухой земли и кустов, окаймлявших поле. Обоняние его еще жило, но все остальные чувства заглушала горечь, подступившая к сердцу. Кровь стучала у него в висках, и он тяжело ступал по земле. По этой дороге должен проехать Стир в своей коляске – будь он проклят во веки веков! Пройдя свой выгон, он очутился у придорожного постоялого двора. Если сесть на скамью у окна, можно было видеть всех проезжающих. Кроме хозяина и двух служанок, внутри никого не было. Бауден, как обычно, потребовал кружку сидра и сел у окна. Он не рассказал о своем несчастье, а они, как видно, ничего не знали. Он просто сидел и глядел на дорогу. Время от времени он отвечал на какой-нибудь вопрос, иногда вставал и протягивал кружку, чтобы ее наполнили. Потом кто-то вошел: он услышал тихие голоса. Вошедшие смотрели на него. Они знали! А он все сидел молча, пока постоялый двор не закрылся. Было еще светло, когда он, шатаясь, побрел обратно к дому, то и дело оглядываясь, чтобы не пропустить Стира. Солнце зашло, вокруг было очень тихо. Он прислонился к воротам изгороди, которой было обнесено его поле на склоне холма. Никто не проезжал по дороге. Сгущались сумерки. Взошла луна. Где-то заухала сова. Позади него, в поле, от купы буков, крадучись, поползли тени, призрачные, едва заметные на траве и на цветах, а потом медленно сгустились под яснеющим светом луны.