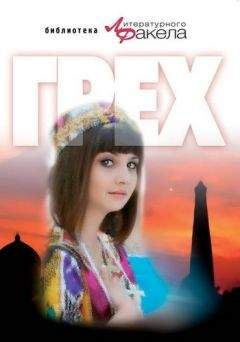Втроем посоветовались, обсудили, какие вещи купить Зайнап, и отправились сестры в главный универмаг. Глазки Зайнап загорались при виде нарядных платьиц, туфелек, они смотрели, что им по карману, и покупали обновки. Еще Соня привезла яркий красивый плащик, ботики, теперь она будет не хуже Лариски! И тут же поникла девочка: нет, она хуже, она намного хуже подружки, с нею такое произошло…
Зайнап молчала. А мать только на третий день пребывания дома улучила момент, чтобы девочка не услышала, рассказала Соне о случившейся беде. Посидели, погоревали, поплакали и решили, что об этом никогда не будут вспоминать сами и с Зайнап на эту тему говорить не будут.
Соня написала письмо мужу, объяснила, что должна сейчас пожить у мамы, выходить ее, поставить на ноги; что он должен ее понять и не должен обижаться. Тимофей Сергеевич очень любил Сонечку, ее мягкий покладистый характер, ее хозяйственность сделали их отношения добрыми; они как бы срослись воедино. Одиноко ему было без жены, но он ее понимал и согласился потерпеть.
– А может быть, привози маму и Зайнап, пусть у нас поживут, ну, на время, пока мама окрепнет? – сказал он Соне по телефону.
– Ну что ты, Тимоша! Зайнап же через неделю учиться начнет в педучилище, учебный год начинается. И мама не согласится, да и не выдержит она такую дальнюю дорогу. Уж потерпи, миленький, я все здесь налажу и приеду.
На том и порешили.
Сестры заготовили тетради, ручки, купили новый портфельчик к первому сентября. Соня и мама проводили нарядную девочку до калитки, дальше она не позволила, она же теперь студентка, а не первоклассница.
Первое сентября пришлось на субботу, решались организационные вопросы, списывались расписания занятий, получали учебники и знакомились друг с другом.
Мальчиков было всего двое в их группе: один – очкарик, низенький, хилый, молчаливый; другой – высокий длинноногий и длиннорукий, несуразный, похожий на Буратино, этот был очень общительным. Он вмиг со всеми перезнакомился, уже разузнал, как зовут преподавателей, кто из них очень строгий, а кто нет, в общем, его старостой и назначили. Он, как и Зайнап, был полукровкой, от русской матери и отца-узбека, говорил на двух языках свободно; они с Зайнап сразу стали друзьями и уселись за один стол.
На следующей неделе, в субботу, забежала Лариска, стала рассказывать о новой школе, что там почти все такие богатые, некоторых и в школу, и обратно на машинах возят; не преминула вскользь сказать, что ее папа получил повышение, теперь и ее часто на машине возят.
– Ой, Зайнап, видела я твоего Петра, пьяный-пьяный, его патруль прямо с площади забрал.
– Какой он мой? – потупилась Зайнап. – Один танец с ним станцевала, чем же он мой?
– Нет, Зайнап, он в тебя влюбился, точно. Мы с мамой в Военторге были, так он меня так тихонечко спросил, что это тебя не видно и где ты живешь? Хорошо, что мама не заметила, было бы мне тогда!
– И никогда не говори! Мне учиться надо, а не с лейтенантами гулять!
Девочка никогда не считала дни между «этим», а мать, еще не набравшаяся сил и позволившая себе расслабиться, уйти в болезнь (ей стало нечего делать, Соня всю работу по дому взяла на себя, вот мать и стала прислушиваться к толчкам в сердце, к боли, время от времени прикладывала руку к груди и вслушивалась в неровный ритм изношенного сердца). Так и проглядели главное – Зайнап была беременна. На удивление, при всей своей хрупкости она совершенно не чувствовала, что в ней зарождается новая жизнь, ей не тошнило, голова не кружилась. Она вместе со всеми бегала и прыгала на физкультуре, с Соней они срезали уродившийся в том году виноград и таскали тяжелые ящики на подворье соседям, которые за полцены скупали, а потом перепродавали золотые гроздья крупного винограда.
Как-то мать заикнулась, что совсем дешево отдаем, на что Соня резонно ответила:
– А что же с ним делать? На зиму вам оставим, я с собою ящичек увезу, а остальное в землю закапывать? Я продавать не пойду, Зайнап тоже, а о тебе, мамочка, и говорить нечего. Пусть хоть половина денег вам достанется, да я немного помогу, зиму проживете. Еще дров и угля подкупим, чтоб печку было чем топить.
Соня прожила в Самарканде больше месяца, по мужу скучала, а ее Тимофей Сергеевич истосковался вконец. Уработавшись на службе почти до полного бессилия, он все-таки садился к столу и писал своей Сонечке очередное письмо: приезжай, милая, совсем мне без тебя одиноко. А потом вызвал жену на переговоры и сообщил, что ему предлагают повышение, но ехать нужно далеко и срочно.
– Куда же, Тимоша?
– Не телефонный разговор. Предлагают два места, нужно срочно принимать решение. Вылетай завтра же.
Сонечка и сама понимала, что зажилась она у мамы, и мать это понимала, но так ей спокойно и размеренно жилось за старшей дочкой! Расставание было горестным, плакали все. Зайнап так и не рассказала сестре о перенесенном насилии, она снова купалась в любви матери и Сони, в их заботе; она сама уже почти забыла о случившемся.
«Это» у Зайнап еще не перешло в четкий цикл, оно то было, то не было; она ведь еще совсем маленькая была, и ни мать, ни она сама не обратили внимание, что уже третий месяц ее трусики оставались чистыми.
Мужу Сони предлагались два места: одно в Украине, тоже с повышением, а другое в Узбекистане, на самой границе с Афганистаном, здесь условия жизни и службы были сложнее, но зато перспектива карьерного роста просматривалась далеко вперед. Судили-рядили недолго, Сонечка своим светлым умом и советом помогла мужу принять правильное решение.
Конечно же, он с десяти лет, с самого Суворовского училища уже принадлежал армии, и для него в его жизни служба и повышение в званиях были самым главным. И, конечно, его любимая Сонечка, которая за ним, как нитка за иголкой, следовала всегда и сразу.
А еще Сонечкой руководило ее доброе сердце. Гарнизон, где им предстояло служить, был не так далеко от Самарканда, значит, у нее теперь будет возможность чаще видеть маму и сестренку.
Прошел еще месяц. Соня уже устроилась на новом месте, жилище у них было в старом двухэтажном доме, мебель была казенная, тогда так в армии было принято. Интендантская служба выдавала по реестру молодым офицерам кровать, шкаф, стол и пару стульев, некоторым еще солдатскую тумбочку и тяжелую дубовую табуретку удавалось получить. На всех предметах гвоздиками были прибиты металлические таблички с выбитыми на них пяти-шестизначными номерами. Приехал служить – получи, уезжаешь – сдай все по описи целым и невредимым.
Конечно, старшему офицерскому составу давали и кресла, и диваны. Это было очень удобно и не отяжеляло быт офицеров. Однако вещи, переходившие из рук в руки, имели далеко не новый вид и долго хранили стойкие запахи прежних хозяев.
Сонечка была отличной хозяйкой, она быстро сумела сделать жилище одомашненным и уютным. Белоснежный тюль на отмытых сверкающих окнах, тяжелые, с бахромой портьеры и подходящие к ним покрывала, коврики на отскобленном добела деревянном полу – и за три дня ее каторжной работы квартира превращалась в теплое семейное гнездо.
Приближались ноябрьские праздники, служба у Тимофея Сергеевича была трудной, поглощавшей почти все его время, дома он бывал редко. Соня тосковала в одиночестве, подруг она не заводила, ни с кем не судачила, занималась домашними делами, шила себе, маме, Зайнап блузочки, юбки и с нетерпением ждала, когда увидит своих родных.
Начинались полевые учения. Тимофей Сергеевич был бесконечно занят, дома только ночевал, даже на обед ему не всегда удавалось заскочить, перехватывал что-нибудь в солдатской столовке. Наконец он отпустил Соню в Самарканд, с условием: через две недели он снова пришлет за нею машину, и она не будет задерживаться с возвращением.
Приехала Соня к матери, предела радости не было, обнимались-целовались, приплясывали и подпевали, мерили привезенные Соней обновки, и все были безмерно счастливы. Соня привезла и корзину продуктов, паек у мужа был объемным, и им хватило, и для мамы сэкономила.
За истекшие месяцы «благополучная» дочь не появилась у матери ни разу, она даже не знала, что мать тяжело болела. Сама не пришла, Зайнап хотела к ней заехать, но мать запретила и адреса не дала, только тихо промолвила:
– Отрезанный ломоть. Забудь.
А другая приезжала, опять такая же бедная и несчастная и снова беременная. Разделила мать и сахар, и крупу; овощи, виноград и яйца разложила по авоськам и корзинкам, и отправился нагруженный «караван» из материнского дома: дочь впереди, а за нею ее выводок, каждый с поклажей.
И ей ничего о болезни матери не сказали – зачем? Она и так несчастная, и если бы даже вдруг в ее сердце нашлось бы хоть какое-нибудь сочувствие, она ничем бы помочь не смогла, а стала бы еще несчастнее, еще больше терзая больное материнское сердце…
Сонечка кроила и шила юбку и блузку по старым меркам. А оказалось, что девочка как-то неравномерно поправилась, блузочка на груди не застегивалась и юбочка на талии не сходилась. Соня с матерью переглянулись, страшное подозрение мелькнуло в их глазах, которое переросло в тихую панику.