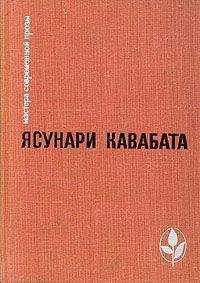сказать, что ему ничего не остается другого сделать, как усесться по-японски. И вот, будучи помещенным на кресло как на подставку, он говорит мне: «Подвинь кресло поближе к окну».
Возле окна стоит символ его жилья – огромная подзорная труба. Когда Поль потерял ноги и переместился в отель на вершине горы, друзья и знакомые подарили ему эту полезную штуку. Учитель любит прибор без памяти – он не разрешает нам даже слегка коснуться его. Смотреть в подзорную трубу было для учеников своего рода ритуалом, посредством которого ты проникался видениями учителя, открывал для себя закоулки его сердца… Словом, будто бы подсматривал за ним.
Сегодня учитель говорит мне:
– А ты знаешь, какой представляется человеческая жизнь, если взглянуть на нее через подзорную трубу?
– Что вы имеете в виду? Я, конечно, наблюдал в театральный бинокль за танцовщицами на сцене. Это было на представлении, приуроченном к цветению вишен. В театре «Синбаси». Но это, пожалуй, и все.
Мне стоит больших усилий, чтобы сказать это по-французски.
– Ну и что, обнаружил ли ты что-нибудь интересное?
– Меня поразило, что теперь я стал видеть только танцовщиц. Они вдруг стали больше себя раза в полтора – будто их на меня волной бросило.
– А что видели вы, госпожа С.?
– А я с башни видела город.
– Ну и каковы были ваши впечатления?
– Это давно было. Как это? Птицы полетели в небо, а я все думала, отчего они быстрее не полетят.
– Птицы? Ты имеешь в виду голубей?
– Ну да, голуби. Я просто забыла, как по-французски «голубь». И еще мне казалось, что это они внутри бинокля крыльями машут.
– Ну ладно, сейчас посмотрим. – Наведя на резкость, Поль приблизил ко мне свой острый нос и сказал: – Смотри!
Я отпрянул. Потому что перед моими глазами стояла целующаяся парочка. Я снова взглянул – точно, целуются.
Женщина была не накрашена. И вдруг к ее до неприятности белым щекам прилила кровь. Наверное, она нездорова. Мужчина целовал ее, а она вся дрожала. Ее волосы упали на спину. Она смотрела на мужчину снизу вверх. Наверное, она болела, а сегодня первый раз помыла голову. А причесалась неаккуратно. Вот волосы у нее и рассыпались.
Увидев мое побледневшее лицо, С. тоже захотела приобщиться к людским тайнам. «Дай теперь мне!» Я преградил ей путь к подзорной трубе. Если бы ее здесь не было, я бы сказал учителю: «Страсть, словно волна, бросилась с разбегу в мое сердце».
Оставаясь устрашающе серьезным, учитель улыбнулся:
– Когда Бог давал вещам имена, он смотрел на мир несколько по-иному, чем это делает человек.
– Да-да, вот и художник тоже…
– В общем, приходите ко мне завтра в это же самое время, то есть в три часа дня. А я разыграю перед вами некую пьеску. И вы почувствуете себя богами.
На следующий день С. явилась на пять минут раньше меня. На ней было новое платье из светло-голубого крепа. От нее пахло другими духами. Над морем встали облака, яркие паруса яхт… Газгольдер на берегу сиял металлом. Во всем городе белыми были лишь дым над новой баней да стена огромной больницы.
Поль придвинул к С. стоявший на столе телефон.
– Набери пятьдесят семь. Это номер больницы. Позови пациентку из третьей палаты, скажи, что это из дома звонят.
Я же в это время смотрел в подзорную трубу. И снова перед моими глазами выросла вчерашняя парочка. Они снова целовались. К ним на плоскую крышу больницы, где был устроен сад, поднялась медсестра. Она слегка поклонилась женщине. Потом они стали спускаться вниз.
В изумлении С. отняла трубку от уха и произнесла по-японски:
– Сказали, что она на минутку вышла.
Учитель повернулся ко мне:
– Бери трубку. Будешь говорить ей то, что я тебе скажу. А ее слова передавать мне.
Женский голос:
– Кто это? Кто? Это ты, что ли?
Учитель:
– Да, это я. И я знаю, что ты целовалась на крыше с сыном директора больницы.
Я:
– Да, это твой муж. И я знаю, что ты целовалась на крыше с сыном директора больницы.
Молчание.
– Ты с ним в первый раз поцеловалась позавчера. А вчера и сегодня ровно в три часа вы являлись к одной и той же скамеечке.
– Ты с ним целовалась в первый раз позавчера…
– Это и вправду ты, что ли? Пожалуйста, не пугай меня. Ты где, на работе? Дома? Что-то у тебя голос какой-то не такой. Где ты находишься?
– Она отпирается. Похоже, не верит, что это и правда муж.
– Ты что ж, меня не узнаешь, мужа своего? Я все знаю, потому что после того, как я приходил к тебе в палату утром, вернулся домой и обнаружил, что забыл там свою трость…
– Что же ты хочешь? Чтобы у меня после таких дел голос нормальный был? А я, между прочим, трость свою сегодня у тебя в палате забыл.
– Трость, трость… И за тростью сюда вернулся? Где ты сейчас?
(Слова, сказанные по-французски, далее опускаются.)
– Мне ни в какую больницу и возвращаться не надо. Я все и так вижу. Ты забыла, что жена принадлежит мужу, ты оскорбила меня. И я видел, как после моего ухода ты сидела на кровати, стригла ногти, кушала апельсин, примеряла носки, на свои ноги все глядела, а потом губы накрасила и перед зеркалом вертелась.
– Подожди, подожди…
– Знай – у меня глаза, как у самого Бога!
– Да подожди ты, не о тебе разговариваем!
– Тогда знай, что этот самый мужчина на той же самой скамеечке целовался с девчонкой, которая находилась в той же самой палате до тебя. И с молоденькой медсестричкой тоже целовался. Ей, бедняге, пришлось из больницы потом уволиться. Я все знаю, я все видел! И вот ты, дура, на ту же самую скамейку уселась.
– Ох, ах, прости меня!
Голос в трубке задрожал. Месье Поль чуть сместил подзорную трубу, и я увидел, как эта мертвенно-бледная женщина бежит к больничным воротам, будто сам дьявол гонится за ней. Потом она стала оглядываться по сторонам и грохнулась наземь.
Учитель зло рассмеялся.
– Первый акт разыгран успешно. Мы сделали из нее супругу такую добродетельную, какой еще не видывал мир.
Из подзорной трубы месье Поля можно было в подробностях наблюдать, что творится у больничных ворот, в аптеке, ординаторской, на кухне, в палатах северного крыла, в саду на крыше. Из соседних с больницей домов ничего этого видно не было. Никто, разумеется, и не мог подумать, что творящееся в больнице можно наблюдать с