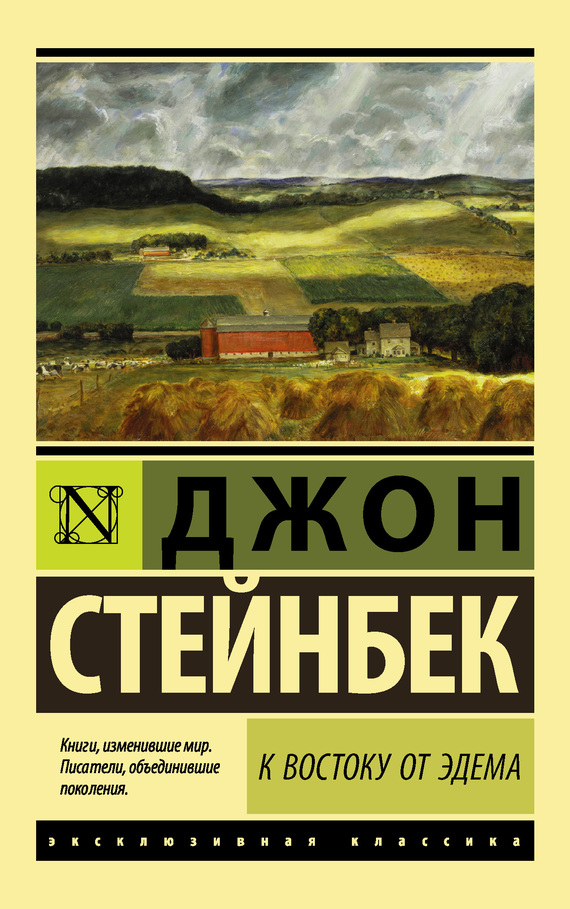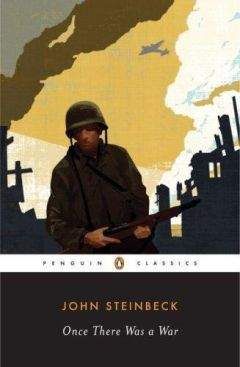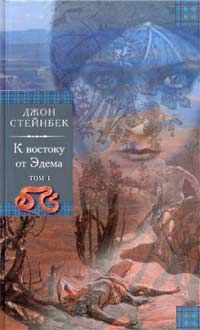голову, чтобы видеть лицо Адама. – Я сказал, что не могу в тебе разобраться, – медленно повторил он. – А теперь вижу, чего ты так и не поняла.
– И чего же я не поняла, мистер Тихоня?
– Ты видишь в людях только уродливую сторону. Вот показала мне фотографии. Играешь на постыдных слабостях мужчины, и, видит бог, их в нем предостаточно.
– У каждого они есть…
– Но всего остального ты просто не замечаешь, – продолжил Адам, удивляясь собственному прозрению. – Не веришь, что я принес письмо, потому что не хочу твоих денег. Не веришь, что я тебя любил. И те мужчины, что приходят к тебе удовлетворить мерзкие потребности, те люди на фотографиях… Ты не веришь, что в них есть много хорошего и доброго. Всегда видишь только одну сторону и считаешь, нет, искренне веришь, что другой просто не существует.
– Что за сладостный мечтатель! – хохотнула Кейт. – Может, прочтете мне проповедь, мистер Тихоня?
– Нет, не стану. Потому что вижу: природа чем-то тебя сильно обделила. Некоторые люди не различают зеленый цвет и не подозревают об этом. По-моему, ты человек лишь наполовину, и тут уж ничем не поможешь. Интересно другое: понимаешь ли ты, что вокруг существует нечто, чего тебе не дано увидеть? Наверное, страшно знать, что оно есть, а ты не можешь ни увидеть, ни почувствовать. Да, должно быть, это ужасно.
Кейт поднялась, оттолкнув кресло и пряча сжатые кулаки в складках платья. Стараясь сдержаться и не перейти на визг, она прошипела:
– Да наш Тихоня настоящий философ! Только и здесь от него нет проку, как и во всем остальном. А слышал ли ты о галлюцинациях? И если есть что-то не доступное моему зрению, не кажется ли тебе, что это лишь плоды больного воображения?
– Нет, не кажется, – заверил Адам. – Совсем не кажется. Как, впрочем, и тебе. – Он повернулся и вышел, плотно закрыв за собой дверь.
Кейт молча смотрела ему вслед, не осознавая, что постукивает кулаками по белой клеенке. Однако она ясно понимала, что белый квадрат двери расплывается из-за застилающих глаза слез, а тело сотрясается не то от гнева, не то от безысходной скорби.
2
Когда Адам покинул заведение Кейт, до восьмичасового поезда на Кинг-Сити оставалось более двух часов. Движимый внезапным порывом, он свернул с Мэйн-стрит и направился по Сентрал-авеню к белому особняку под номером 130, принадлежащему Эрнесту Стейнбеку. Ухоженный, импозантный, но без излишней помпезности, дом выглядел приветливо. За белой оградой виднелся подстриженный газон, а вдоль белых стен росли кусты роз и жимолости.
Поднявшись на просторную веранду, Адам позвонил. К двери подошла Олив, слегка приоткрыла, а из-за ее спины выглядывали Мэри и Джон.
Сняв шляпу, Адам объяснил:
– Вы меня не знаете. Я – Адам Траск. Ваш отец был моим другом, и мне хотелось бы засвидетельствовать почтение миссис Гамильтон. Она мне очень помогла, когда на свет появились близнецы.
– Ах да, конечно же. – Олив распахнула дверь. – Мы о вас слыхали. Подождите минутку. Мы устроили для мамы тихий уголок.
Она постучала в дверь в дальнем конце коридора:
– Мама, к тебе пришел старый приятель!
Открыв дверь, она проводила Адама в уютную комнату, где жила Лайза.
– Вы уж простите, мне надо идти, – обратилась Олив к Адаму. – Катрина жарит кур, и надо за ней присмотреть. Джон, Мэри, идемте со мной! Поторопитесь!
Лайза стала еще миниатюрнее. Она сидела в плетеном кресле-качалке, одетая в платье с широкой юбкой из черной шерстяной ткани «альпака», и выглядела древней старушкой. Ворот платья сколот брошью, на которой золотыми буквами выведено слово «мама».
Прелестная маленькая комнатка, служащая одновременно спальней и гостиной, завалена фотографиями, флаконами с туалетной водой, кружевными подушечками для булавок, щетками, гребнями и великим множеством фарфоровых и серебряных безделушек, подаренных в дни рождения и на Рождество.
На стене висела большая подкрашенная фотография Сэмюэла, с которой он, чужой и далекий, с холодным достоинством, совершенно не свойственным ему в жизни, взирал на мир. Ни озорного блеска в глазах, ни веселой пытливости. Портрет поместили в массивную золоченую раму, и, казалось, глаза дедушки следят за каждым шагом внуков, наводя на детишек страх.
На плетеном столике рядом с креслом Лайзы стояла клетка с попугаем Полли, которого Том купил у какого-то матроса. Попугай достиг преклонного возраста. Если верить прежнему владельцу, он уже перевалил за пятидесятилетний рубеж, привык к разгульной жизни и темпераментным речам, которые обычно звучат в матросских кубриках. Несмотря на все старания, Лайзе так и не удалось обучить птицу псалмам. Попугай упорно хранил верность цветистому лексикону своей беспутной юности.
Полли, склонив голову набок, изучал Адама, почесал коготком перья у клюва и безучастным голосом изрек:
– Вали отсюда, ублюдок.
– Полли, – нахмурилась Лайза, – не груби. Это невежливо.
– Чертов сукин сын! – задумчиво откликнулся попугай.
Лайза сделала вид, что не слышит непристойностей питомца, и протянула сухонькую ручку гостю:
– Рада вас видеть, мистер Траск. Присаживайтесь.
– Вот проходил мимо и решил выразить свои соболезнования.
– Мы получили ваши цветы.
Прошло столько времени, а Лайза до сих пор помнила каждый букет. Адам тогда отослал пышный венок из бессмертника.
– Трудно, должно быть, приспособиться к новому образу жизни.
Глаза Лайзы наполнились слезами, но она решительно сжала маленький рот, преодолевая минутную слабость.
– Наверное, не стоит бередить вашу рану, – сказал Адам, – но мне так не хватает вашего мужа.
– А как дела на ранчо? – спросила Лайза, отворачиваясь.
– Год выдался хороший. Идут обильные дожди, травы уже выросли.