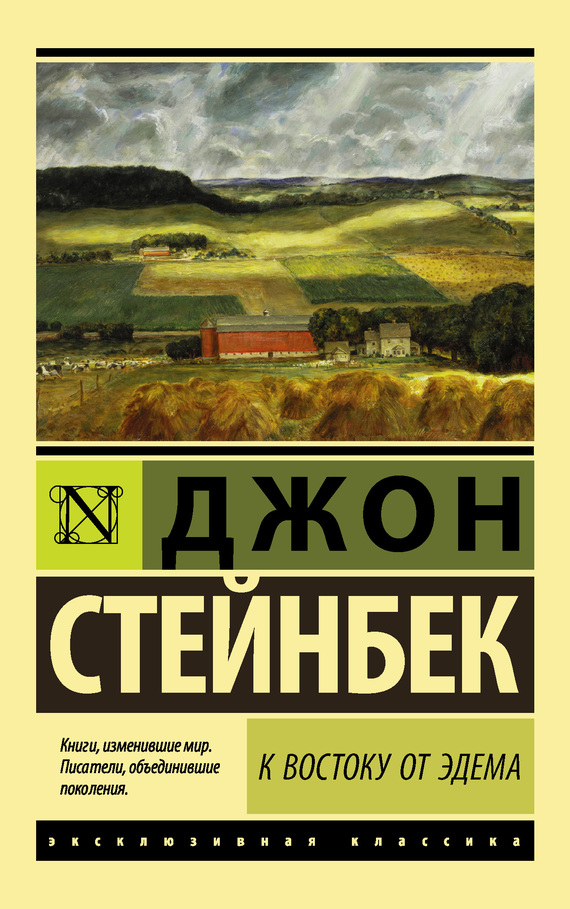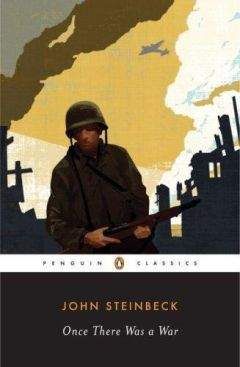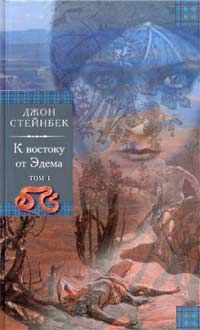Том вывел его во двор и отпустил пастись на воле, на не огороженных забором просторах.
А в доме вся мебель, кресла и даже плита будто шарахались от него с отвращением. Он вошел в гостиную, и стоявший на дороге табурет ловко увернулся из-под ног. Спички в кармане совсем размокли, и Том, испытывая чувство вины, отправился в кухню за новой коробкой. Вскоре он вернулся. На столе в гостиной одиноко стояла лампа, словно неподкупный судья. Том поднес зажженную спичку, и пламя, вспыхнув вокруг фитиля, стало желтым и поднялось на дюйм в высоту.
Он сел, обвел взглядом комнату, окутанную вечерними сумерками, стараясь не смотреть на набитый конским волосом диван. Услышав доносившуюся с кухни мышиную возню, повернулся и увидел на стене тень в шляпе. Шляпу Том снял и положил рядом на стол.
Сидя при свете лампы, он думал о пустяках, отгораживаясь от главного. Однако Том знал, что очень скоро огласят его имя, и тогда придется предстать перед судом, на котором в роли судьи выступит он сам, а присяжными заседателями станут его грехи и преступления.
И вот в ушах прозвучал пронзительный голос, выкрикнувший его имя, и Том мысленно предстал перед обвинителями. Первое – тщеславие. Оно обвиняет Тома в неумении хорошо одеваться, неряшливости и вульгарности. Следующее обвинение выдвигает похоть. Сколько раз он швырял деньги на ветер, оплачивая услуги проституток. Непорядочность заставляла притворяться, будто он обладает талантами и силой мысли, которых нет и в помине. А вот рука об руку с ленью выступает чревоугодие. Эти обличители успокоили Тома, так как заслонили собой огромную серую тень, пристроившуюся на заднем сиденье, дожидаясь своего часа. Серое, вселяющее ужас преступление. И Том цеплялся за мелкие грешки, видя в них чуть ли не добродетели и путь к спасению. Да, он завидовал богатству Уилла и предал Господа, которому молится мать. Праздное времяпрепровождение, утрата надежды, болезненное неприятие любви.
Послышался тихий голос Сэмюэла, заполнивший собой комнату:
– Будь добрым, чистым и великим, будь Томом Гамильтоном.
Но Том пропустил слова отца мимо ушей.
– Я занят. Приветствую старых друзей.
И он кивнул хамству, уродству, недостойному сыновнему поведению и неухоженным, грязным ногтям. Потом снова обратился к тщеславию. И тут, оттесняя плечами остальных, вперед выступила серая тень. Поздно прятаться за детские грешки. Серая тень – это убийство.
Том ощутил рукой холод стакана, видел жидкость, в которой растворялись кристаллики и всплывали вверх похожие на крошечные жемчужины пузырьки. И он сам повторяет в пустоту комнаты: «Соль непременно поможет. Подожди до утра, и все пройдет». Да, в точности так он и говорил. Его слова слышали стены, кресла и лампа и могут их подтвердить. Во всем мире не осталось места для Тома Гамильтона, как он ни искал. Тасовал все варианты, как колоду карт. Лондон? Нет! Может, Египет с пирамидами и сфинксом? Нет! Париж? Опять не то! Погоди, там грешат так, что тебе и не снилось. Нет, не подходит! Ладно, оставим пока в покое Париж. Может, еще сюда вернемся. Вифлеем? Господь милосердный, нет! Чужестранцу там будет одиноко.
И кстати, следует заметить, трудно припомнить, как и когда ты умираешь. То ли достаточно приподнятой брови или тихого шепота – и тебя уже нет. Или это ночь со вспышками света, в которую подгоняемый порохом свинец настигает твою заветную тайну и выпускает жизненную силу.
И это правда. Том Гамильтон мертв, остается только соблюсти ряд условностей, которых требуют приличия, и поставить точку.
Диван осуждающе скрипнул, словно желая привлечь внимание. Том взглянул на него и на дымящуюся лампу.
– Благодарю, – обратился Том к дивану. – А я и не заметил. – И он закрутил фитиль, пока лампа не перестала дымить.
Разум Тома погрузился в дрему, но Убийство разбудило его пощечиной. А рыжий Том, приносивший племянникам жевательную резинку, слишком устал, чтобы свести счеты с жизнью. Это требует усилий, возможно, будет больно, и впереди ждет адская мука.
Он вспомнил, что мать испытывает стойкое отвращение к самоубийству, которое, в ее понимании, сочетает три вещи, неизменно вызывающие неодобрение: дурные манеры, трусость и грех. Самоубийство достойно порицания, не меньше чем супружеская неверность или воровство. Но должен же найтись выход, который спасет от осуждения Лайзы. Иначе страданиям не будет конца.
Сэмюэл строго судить не станет, но, с другой стороны, от него никуда не скрыться, потому что он вездесущ. Том должен поговорить с ним.
– Отец мой, прости, – обратился он к Сэмюэлу. – Это выше моих сил. Ты во мне ошибся, переоценил. Хотел бы я оправдать любовь, которую ты напрасно на меня потратил. Зря ты мной гордился. Возможно, ты бы нашел достойный выход, а вот я не могу. Не могу жить. Я убил Десси и хочу уснуть.
И мысленно ответил за ушедшего отца:
– Да, мне понятны твои переживания. Существует так много вариантов, из которых выбирается путь от рождения к рождению новому. Но давай подумаем, как все устроить, чтобы не причинить боль матери. К чему так спешить, сынок?
– Не могу ждать, – откликнулся Том. – Нет сил выносить эту муку.
– Да нет же, сынок, потерпишь. Ты вырос человеком с возвышенной душой и оправдал мои ожидания. Открой же ящик стола и пораскинь мозгами, докажи, что у тебя на плечах умная голова, а не репа.
Том выдвинул ящик, в котором обнаружил стопку тисненой почтовой бумаги, пачку конвертов, два обгрызенных карандаша и несколько марок в дальнем углу, заросшем пылью. Он достал из ящика бумагу, заточил ножиком карандаши и взялся за письмо:
Дорогая мама!
Надеюсь, ты в добром здравии. В дальнейшем я намерен проводить больше времени с тобой. Олив пригласила меня на День благодарения, и я непременно приеду. Малышка Олив готовит индейку не хуже тебя, хоть ты никогда этому не поверишь. А мне вот повезло. Купил за пятнадцать долларов мерина, и похоже, он чистых