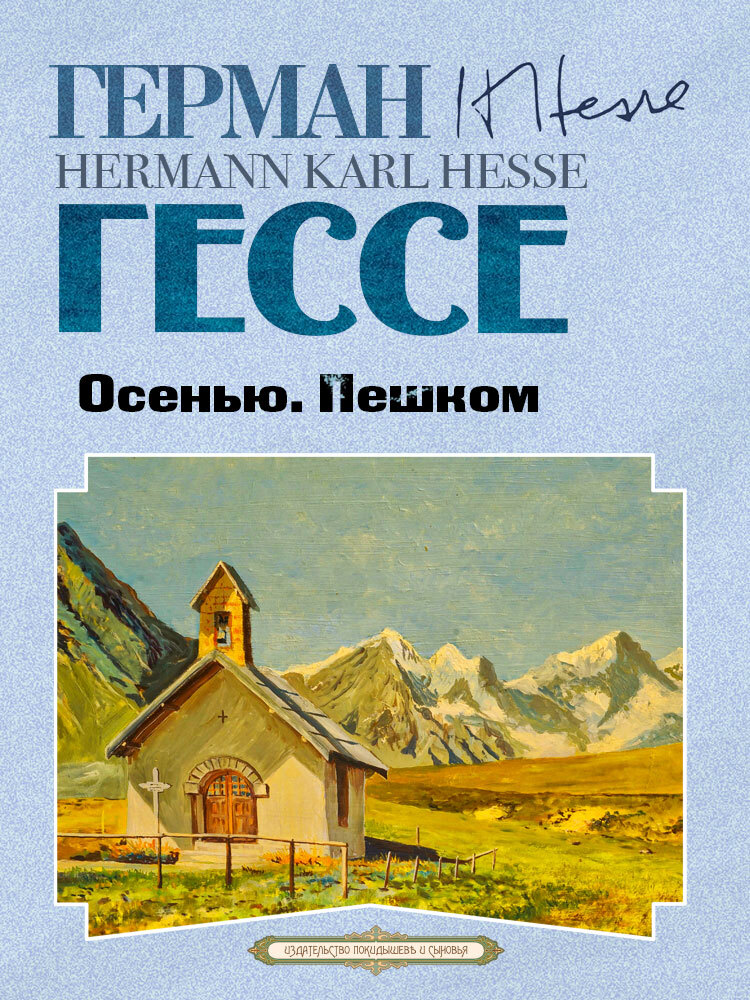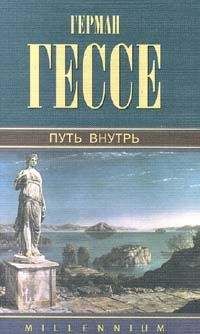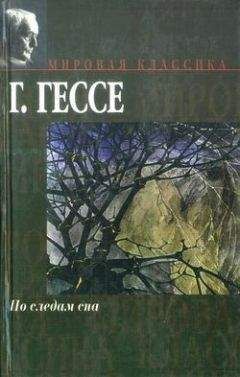держал себя с нею холодно и важно, как подобало моему гимназическому достоинству, и жестоко уязвлял ее материнское сердце. На следующий день она уехала, но перед отъездом пришла к гимназии и дождалась первой перемены. Когда мы выбежали из классов, она стояла на дворе, тихо улыбаясь, и ее добрые глаза ласково светились мне. Но меня стесняло присутствие товарищей. Я медленно пошел ей навстречу, небрежно кивнул ей головой и так держал себя опять, что она должна была отказаться от прощального поцелуя и благословения. Она грустно и спокойно улыбнулась мне, и вдруг быстро перебежала через улицу к фруктовой лавочке, купила фунт орехов и сунула мне картуз в руки. Затем она пошла на вокзал, и я смотрел ей вслед, пока она не исчезла за поворотом улицы со своим старомодным маленьким ридикюлем. Мне было невыносимо больно и хотелось слезами вымолить прощение за свою глупую мальчишескую жестокость.
В это мгновенье подошел ко мне один из моих товарищей, мой главный соперник в делах savoir vivre.
– Мамашины конфеты? – злорадно спросил он.
Я быстро овладел собой и предложил ему картуз, но он отказался, и я роздал все орехи четвероклассникам, ни одного не оставив себе.
Я с яростью ел теперь свой орех, швырнул скорлупу в кучу черной листвы и стал спускаться в долину под зеленовато-голубым, дымчато-золотистым вечерням небом, мимо расцвеченных осенью берез и веселой рябины, в синеватый сумрак молодого ельника и потом в густую тень высокого букового леса…
После двухчасового беспечного шатания, я очутился в лабиринте узких темных лесных тропинок, и чем темнее становилось, тем нетерпеливее искал я выхода. Выбраться прямой дорогой из чернолесья было невозможно. Лес был густой, почва местами вязка, и стало беспроглядно темно.
Я устало плелся, спотыкаясь на каждом шагу, но странно возбужденный этим ночным блужданием. От времени до времени я останавливался, кричал и долго вслушивался в перекаты моего голоса. Все затихало, и холодная торжественность и густой черный мрак беззвучной чащи окружали меня со всех сторон, как занавеси из тяжелаго бархата. В то же время меня тешила глупая тщеславная мысль, что ради свидания с почти забытою женщиной я пробиваюсь сквозь чащу, холод и мрак, в почти забытом краю… Я стал тихо напевать мои старые песни:
Мой взор поражен, я глаза опускаю
И наглухо сердце мое замыкаю,
Чтоб тайно предаться блаженству мечты
О чуде твоей красоты…
Для этого скитался я в чужих странах и тело и душа моя в долгой борьбе покрылись несметными рубцами, чтобы распевать теперь старые глупые песни и гнаться за тенями давно поблекших мальчишеских безумств! Но меня это радовало, и, с трудом шагая по вьющейся тропинке, я опять пел, сочинял и фантазировал, пока не устал и замолк. Ощупью находил я толстые стволы буков, обвитые лианами. Ветви их и верхушки незримо плыли надо мною во мраке. Так прошло еще с полчаса, и я начал уже было робеть. Но тут я увидел и пережил нечто незабвенное.
Лес внезапно кончился, и я стоял среди последних стволов на высоком, крутом обрыве; внизу в ночной синеве лежала широкая лесистая долина, а посредине, у моих ног, тихая, таинственная деревушка с шестью – семью маленькими светящимися красным светом окошками. Низенькие домики, от которых видны мне были лишь мягко поблёскивавшие плоские гонтовые крыши, шли тесными рядами, небольшим уклоном, а меж ними бежала узкая темная улица, и в конце ее серел большой деревенский колодец! Дальше, выше, на пригорке, одиноко стояла меж светящимися крестами часовенка. Немного поодаль по крутой холмистой тропинке быстро взбирался человек с фонарем. Внизу, в деревушке, в каком-то доме, две девушки пели песню сильными светлыми голосами.
Я не знал, где нахожусь, и как называется деревня, да и спрашивать об этом не хотел…
Дорога моя от опушки леса уходила куда-то в гору, и я осторожно по голым крутизнам стал спускаться вниз к деревне. Попал в сады, на какие-то узкие каменные ступеньки, наткнулся на какую-то подпорку, потом должен был перелезть через какой-то забор, перескочить через мелкий ручей, и, наконец, очутился в деревне, и пошел наугад первою кривою, спящей улицей. Вскоре, однако, я пришел к гостинице, в которой еще светился огонек.
В нижнем этаже было тихо и темно, из вымощенных камнем сеней вела старая, расточительно построенная лестница с пузатыми перильными столбиками, освещенная висевшим на веревке фонарем, вверх, через коридорчик с каменным тоже полом, в комнату для гостей. Она была очень большая, и освещенный висячей лампой стол подле печки, за которым трое крестьян пили вино, казался каким-то светлым островком в большом полутемном пространстве.
В печке, огромном кубическом сооружении, покрытом темно-зелеными изразцами, горел огонь. В изразцах ласково и тепло отражался бледный свет от лампы, под печкою спада черная собака.
Хозяйка встретила меня приветствием, когда я вошел, а один из крестьян пытливо взглянул на меня.
– Это кто такой? – подозрительно спросил он.
– Не знаю, – сказала хозяйка.
Я сел за стол, поклонился и спросил вина. Оказалось только нынешнего года, светло-красное молодое винцо, но уже крепкое и быстро согревшее меня. Потом я спросил о ночлеге.
– Да, видите ли… – сказала хозяйка, пожимая плечами. – Дело-то вот какое… Комната, конечно, у нас есть, но как раз сегодня ее занял один господин. Там и кроватей две стоят, но господин уже спит. Если бы вы поднялись наверх и поговорили с ним…
– Нет, не стоит. А больше места нет?
– Место-то есть, но кроватей больше нет.
– А если бы я устроился тут у печки?
– Пожалуйста, если вы хотите. Я вам дам одеяло, и дров еще подбросим… Пожалуй, и не озябнете…
Я попросил ее сварить мне яиц и дать колбасы и, во время ужина, осведомился, насколько я далек еще от цели моего путешествия.
– Скажите, далеко отсюда до Ильгенберга?
– Часов пять ходьбы. Вот господин, который комнату занял, тоже возвращается туда завтра. Он там живет.
– Та-а-к… А что он здесь делает?
– Дрова покупает. Он каждый год приезжает.
Трое крестьян в разговор наш не вмешивались. Я подумал, что это, наверно, лесопромышленники или возчики, с которыми ильгенбергский покупатель заключил сделку. Меня они, видимо, принимали за дельца или чиновника и поглядывали на меня недоверчиво. И я тоже на них не обращал внимания.
Едва я отужинал и откинулся на спинку кресла, как где-то совсем близко и громко возобновилось внезапно пение девичьих голосов, которое я слышал с горы. Они пели