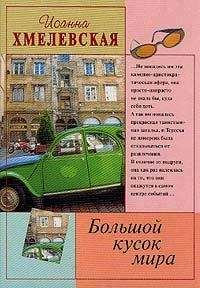Александр Уваров
УЖИН В РАЮ
Каких свершений, издевательств, каких мук я ещё ожидал? Не знаю. Но я твёрдо верил в то, что не прошло время ужасных чудес.
Станислав Лем
И будут падать среди вас убитые, и узнаете, что Я — Господь
Книга пророка Иезекииля (гл. 6, ст. 7)
Я мясо.
Я большой кусок сырого мяса.
Я дрожу. Я трясусь.
Я большой, дрожащий, трясущийся кусок мяса, схваченный стальною проволокой, намертво прикрученный к холодной металлической поверхности стола, сжатый и сдавленный в хитроумных переплетениях петель и узлов.
Мне холодно. Мне тяжело дышать. Во мне копится моча. Тёплая жидкость. Безжалостно растягивающая мочевой пузырь. Наполненный жидкостью пузырь.
Кишечник набит калом. Он распух. Толстая, вздувшаяся змея ворочается у меня в животе.
Больно.
Проволока врезается в кожу. Глубоко. Так глубоко, что поверхность кожи смыкается над ней, напрочь скрывая стальную линию от моего взгляда.
Моя голова не привязана. Не зафиксирована. Я могу поднять голову. Я могу осмотреть моё тело.
Моё тело связано. Моё тело лежит на столе. Большом, широком, металлическом столе.
Он похож на разделочный? Широкий разделочный стол для больших, сочных кусков мяса. Кусков мяса, истекающих соком.
Сок желаний. Желаний утолить голод. Это альтруизм, не так ли? Это так. Это высшее проявление альтруизма. Утолить чей-то голод. Своей плотью.
Стать частью чьей-то пищеварительной системы. Пройти пищеварительным трактом. Купаться в желудочном соке. Медленно и важно, с осознанием величия своей миссии, пройти по кишечнику. Миллионами частиц своих раствориться в крови. С нею пройти через чьё-то сердце. И, наконец через широкие ворота артерий войти в чей-то мозг, нестись по извилинам кровеносных сосудов, на каждом их витке оставляя частичку себя, своей души, своей стремительно умаляющейся, исчезающей плоти — и с небывалым, неизведанным ранее восторгом ощущать, как становишься единым целым с этой тёплой и нежной тканью.
Этот стол похож на разделочный? Не так ли?
Будь этот стол просто разделочным, лишь обычным разделочным столом, простым рабочим местом мясника, не искушённого в высших таинствах своего ремесла, но лишь добросовестно исполняющего раз и навсегда заученный им ритуал, не осознавая ни глубины его, ни истинного значения — и тогда бы этот стол казался мне совершенным приспособлением для извлечения чистейшего экстракта любви из вмещающей его плоти.
Даже тогда строгие его линии, идущие в стык друг другу под прямым углом, жёстким нажимом прочерченные по плоскости стали; холодное равнодушие его поверхности, способной победить тепло любого тела, и при том неизменно чистой, не впитывающей, отторгающей потоки крови, струйки мочи и разводы жидких каловых масс, что стекают по ней раз за разом, таинство за таинством, ритуал за ритуалом — и тогда бы все эти детали лаконично выписанной картины, эта эстетика расчленения, преодоления плоти, покорения Эго (да! маленького, сжавшегося в комок, истошно визжащего господина Эго, забившегося в самый дальний, самый тёмный уголок сознания; трусливого господина Эго, не желающего умирать); эта эстетика преодоления тепла внушила бы мне священный трепет и восхищение перед силой и величием своим.
Любой зверь, наполненный жизнью, с выпирающими из натянутой шкуры буграми мышц; любое безумное, алчущее жизни творение Господа, схваченное проволокой, прикрученное сталью к стали — смирилось бы перед грозной, всеподавляющей силой этого совершенного орудия расчленения и убийства.
Но теперь, когда я знаю точно, что ритуал проведён будет тем, чьё искусство смирения плоти превышает способности самого совершенного из людей; теперь, когда я знаю, что стальной этот стол станет ложем самой чистой любви, на котором зачато будет самое нежное и чуткое сострадание — как не быть мне счастливым, как не благодарить Господа за оказанную мне милость?
Но почему тогда я дрожу?
Холод сильнее меня?
Или это всё-таки страх?
Серебристая, ровно отсвечивающая поверхность. Мощные, белые, слепящие лампы.
На моей коже должны уже были образоваться подтёки и синева пережатой и сдавленной ткани. Но в свете этих ламп плоть моя равномерно бела. Словно присыпана пудрой. Лишь тёмные полосы там, где проходит проволока.
Я смотрю на своё тело.
Я поднимаю голову. Иногда. Мне трудно это делать. Каждое такое движение вызывает сокращения одних мышц и растяжение других. Раньше, в прежней моей жизни, жизни без ангела, я так часто поднимал и опускал голову, смотрел направо и налево, и иногда даже назад. И вверх. Но никогда и представить себе не мог, что простые эти движения могут быть сопряжены с такой невыносимой болью.
Но иногда я поднимаю голову. Я смотрю. Я не узнаю своё тело.
Стали не видно. Лишь на выходе проволоки из впадин и борозд моей кожи ровно и грозно поблёскивает она; она — воплощение высшей воли; длань Божья, смирение твари, боль и покой.
Раб Божий. Думал ли я когда-нибудь, что воля Господа может быть явлена именно так?
Как глубоко продуман и рассчитан божественный этот чертёж, нанесённый на моё тело! Разве дано смертному замыслить нечто подобное? Разве дано ему постигнуть божественный замысел, разве дано осмыслить во всём высший смысл того обряда, того служения, в котором мне предстоит участвовать в качестве главного действующего лица (да простит Всевышний мне нескромность мою!) и который явит людям всю глубину божественного милосердия и высшего проявления любви Господа к детям своим?
О, нет! Не дано!
В ослеплении своём сторонний наблюдатель, лишённый благодати Божией и дара лицезреть проявление высшего милосердия Господа, увидит лишь грязную, отвратительную сцену жестокой, изощрённой пытки, сладострастное насилие и гибнущую в муках невинность.
Невинность?! Но и глина была невинна перед Господом. И прах земной был невинен. Разве создание из праха человека — не есть акт величайшего насилия во Вселенной? И разве заслужила глина столь мучительную смерть, дабы воплотится затем в твари разумной?
И разве сказал кто-нибудь: «Остановись, Создатель! Мир, созданный Тобой, уже совершенен! Прах, что в руках Твоих, почитает тебя и любит тебя. Миллионами и миллиардами частиц своих он славит Тебя и нежно льнёт к рукам твоим, согреваясь твоим теплом. Зачем же ты столь безжалостно мнёшь и терзаешь его? Чем провинился он? Разве заслужил он такие муки? Глина и прах земной погибнут. Воплотятся они в человека. Но будет ли он так же любить тебя? Будет ли он так же тянутся к рукам твоим, даже зная при этом, что будет безжалостно смят и раздавлен, дабы в свою очередь послужить исходным материалом для иного воплощения любви Божией?»
Нет, никто не сказал так. Никто не посмел судить Господа и заронить (нет, не в сознании Всевышнего — в своей душе) зёрна сомнения в справедливости именно такого решения.
Я виновен перед Господом. Виновен, потому что испытываю страх. Потому что дрожу. Потому что, пусть даже подсознательно, пусть даже против своей воли, пытаюсь противиться замыслу Создателя, мешая тем самым свершиться великому акту творения.
Бред… Что за бред у меня в голове!
Почему я оправдываю насилие?
Что великого и возвышенного в том, что меня уничтожат?
Разве только… Хоть это будет оправданием моей жизни.
Неужели это — мой путь к Господу? Неужели мой путь может быть только таким?
Что за жизнь Он мне послал! Что за спутника в конце пути он мне дал!
И что за рай приготовил Он мне!
Глина невинна. Прах невинен.
А кусок мяса? Большой, дрожащий кусок мяса? Виновен ли он?
Я избран.
Я был связан. Пока ещё не стальной проволокой. Обыкновенной верёвкой.
Глубоко в рот, сдавив язык и сдвинув его чуть не до самого горла, затолкали мне туго скрученную, грязную, пропахшую бензином тряпку.
Той тряпкой, должно быть, протирали машину. Двигатель, бамперы, колёса. От вкуса её и запаха тошнота подкатывала к горлу.
Песчинки врезались мне в нёбо, обдирая его.
Я боялся, что у меня начнётся рвота и рвотные массы, пройдя через дыхательное горло, потекут в мои лёгкие. Судорога сведёт моё тело, я начну кашлять, биться, хрипеть — и, захлебнувшись, умру от мучительного удушья.
Едва ли даже в предсмертной агонии я смог бы вытолкать изо рта этот зловонный, туго скрученный кляп.
Тогда я ещё не мог догадаться, не мог понять, что Господь не даст погибнуть праведнику, не сжав его хорошенько в своих ладонях.
Я боялся, ибо не ведал воли Господа и любви Его.
Машина ехала быстро. На поворотах её заносило и я бился головой то о борт машины, то об днище багажника, то о верх его.
Сила инерции бросала меня то на один край машины, то на другой.