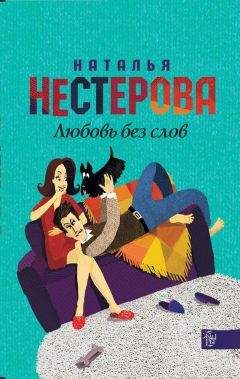ВОЗРОЖДЕНИЕ ЦЕНОЙ УТРАТЫ
Воодин
Водва
Вотри
Вочетыре
Вопять
Вошесть
Восемь
Девять
Десять.
Вот такие стихи пишет Иван. Только я чего боюсь – если уж что-то называть масонским явлением, то не такие ли стихотворения в первую очередь?
– Хочешь, телевизор включим? – предложил Валера.
– Да ну его в жопу!
– А чувствуешь, забирает бражка?
– Подумать только, – сказал Иван, вдруг задумавшись, – мы так давно смотрим телевидение, что уж отвыкли от нормальных, не порченных им людей…
– Да, а тебя разве не забрало?
– Это тебя на старые дрожжи забирает.
– Слушай, я как раз анекдот вспомнил.
– Только ради бога не похабный!
– Да нет, я как раз не похабный вспомнил. Это, значит, мужык один – пошел на улицу. Вышел, значит, идет, смотрит на руку. (Пауза) Нет! Вспомнил. Мужик, значит, утром встает и выходит на улицу… Идет, идет… (Пауза) Ну, ушла на работу, значит, совсем. А мужик утром встает, (Валера говорит таинственно, с отчаянной жестикуляцией) смотрит в одну комнату – нет жены, смотрит в другую – нет жены… (Пауза) Смотрит на кухню – нет жены, смотрит в ванную – нет жены… (Пауза)
– Смотрит в туалет – нет жены, – дополнил рассказ Иван.
– Ну пошел, идет и раз: на руку посмотрел. Нет… (Пауза) Да! Вспомнил. Ну, мужик в холодильник, достает колбасу, сыр там, хлеб и булку! (Торжественно) Поллитра! Водку, значит, выпил! И пошел на улицу. Идет и на руку смотрит… (Пауза) Навстречу ему парень идет и закурить спрашивает… Нет! Во! Вспомнил! Мужик часы то дома забыл! А навстречу парень идет! А часов-то нет! Парень спрашивает закурить и сам на часы смотрит и спрашивает: Сколько времени? А мужик на руку посмотрел (часов то нет!) А парень то все понял и убежал. А мужик за ним, значит… (Пауза) Да! И часы-то отобрал и домой пошел. А уже ночь, значит, темно.
Пошел домой – жена спрашивает: Где часы? А мужик говорит: Вот они. А жена тогда и говорит: Эх ты, вот часы-то на столе лежат!
– Ты свои масонские анекдотики брось! – хмуро ответил Иван.
– Нет, я просто забыл немного! Я ещё один вспомнил.
– Нет, уж хватит. Включай свой телевизор лучше.
Валера включил свой телевизор.
– Какую программу?
– Откуда я знаю какую программу? Включай, посмотрим.
Дорогие товарищи! Сегодня в нашей программе вечер одноактных пьес из античной жизни по мотивам произведений Жана Расина, Освальда Штенглера и других.
Титр:
ИППОЛИТ
(по мотивам произведений Ж.Расина)
На сцене сидит убеленный сединой старец, листает какие-то пергаменты. Вбегает юноша с совершенно перекошенной мордой и скрежечет зубами.
СТАРЕЦ (грустно и вальяжно): Ты кто, о отрок?
ЮНОША (с пеной у рта): Я дикий Ипполит!
Иван и валера задумчиво глядят на экран.
– Не понял! – наконец говорит Иван.
Валера поскреб затылок и вздохнул.
– Это типа юмора, что ли? – спросил Иван.
– Из античной жизни, – равнодушно пояснил Валера, не нашедший драму чем либо необычной. На экране телевизора новый титр:
ЗАКАТ ЕВРОПЫ
(по мотивам произведений О.Штенглера)
На сцене две колонны, два фикуса, две двери. Из одной двери, в ванную, опрометью, босой и вообще только кое-где изящно задрапированный выбегает Архимед.
АРХИМЕД (свежо, молодо, как типичный представитель начала цивилизации, очень вдохновенно): Эврика!
Из другой комнаты выходит Андрей Филлипов, грязный, постаревший, хоть и моложе Архимеда лет на двадцать, сгорбившись, в обтруханных штанах, с сеткой пустых бутылок – видно шел сдавать, да заплутал.
АНДРЕЙ ФИЛЛИПОВ (с мудрой горечью представителя заката цивилизации): Хуеврика!
Все происходит мгновенно, вся драма занимает пять секунд, то есть лучше писать так:
АРХИМЕД: Эврика!
АНДРЕЙ ФИЛЛИПОВ: Хуеврика!
(занавес)
Иван вскочил как ошпаренный:
– Ты слыхал?
– Чего?
Иван подумал и дико рассмеялся:
– Ты знаешь, как мне показалось он сказал?
– Как?
– «Хуеврика».
– Дык он так и сказал, – спокойно ответил Валера.
– Ты что, чекнулся, что-ли?
– А теперь часто такое по телевизору – перестройка.
– Какое «такое»?
– Вот на днях семихуев показывали.
– Кого?!
– В Африке зверь такой – осьминогий семихуй.
– Да ты совсем охуел от своей браги! Свинтился! Давай, переключай, хватит на эту мудотень масонскую смотреть.
Валера переключил телевизор на другую программу, стал разливать брагу.
АЛЕКСАНДР ЖЕГУЛЕВ
Так было и с Сашей Погодиным, юношей
красивым и чистым, избрала его жизнь
на утоление страстей и мук своих…
Печальный и нежный, любимый всеми,
был испит он до дна души своей… был
он похоронен со злодеями и убийцами.
Л. Андреев
… но когда стемнело, Саше стало совсем невмоготу смотреть на далекое зарево городских огней.
Глаза его слезились от фар редко проезжавших машин и ещё от того, что произошло только несколько часов назад, как он поцеловал – может в последний раз! – юную жену и чистого безмятежного младенца.
«Нет, – в который раз он до крови стискивал зубы, – так надо!». «А зачем?» – снова обволакивала его паутина неуверенности, неоднозначности и главное, сильной поганости избранной им судьбы.
«А почему?» – снова поднимал он прекрасное лицо к небу и звезды мерцали ему: доля такая.
«Какая доля? Бедовая доля?»
«Нет, просто: доля такая.»
Машины совсем уже перестали проезжать; Саша выбрался из канавы на шоссе и, теребя руками перочинный нож, двинулся во тьму. Со стороны города послышалось ритмичное повизгивание и замерцал огонек: приближался почтальон на велосипеде. Это была удача.
– Стой, почтальон, – изнемогающим голосом сказал Саша, доживая последние секунды перелома, – остановись, пора…
Александр почувствовал, что нож, руки и язык отказывают ему.
– Чего? – отозвался ошалелый почтальон, ставя ногу с педали на землю. В тот миг Саша выпростал из-под пиджака руку с ножом и несколько раз, как мог глубоко, ударил его. Почтальон побарахтался в своем вилосепеде и с грохотом свалился на асфальт.
«Кровушка невинная пролилась…» – с горечью подумал Саша, сволакивая бездыханное тело под откос.
(Иван недоуменно взглянул на Влеру Маруса, но тот спокойно созерцал демонстрируемое.)
Письма, найденные у почтальона в сумке Александр, какие разорвал и разбросал по шоссе, а какие втоптал каблуками в землю. Завернувшись в ворох реквизированных газет, Саша долго, шумно шелестел как еж и ворочался в сырых кустах не в силах заснуть.
«Ну вот и началось… – думал он и дрожал, – тварь ли дрожащая, или…»
…
Дело пошло быстро и хорошо. К Саше примкнули многие, видно время назрело – его отряд рос как снежный ком, не по дням, а по часам. После удачного налета на пост ГАИ достали оружие, боеприпасы, что позволило значительно расширить объем боевых операций; не принебрегали и мелочами.
И народ любил Сашу, любил и понимал. Понимал тогда, когда отряд взрывал водонапорную башню и рушил мосты, и тогда, когда Александр, плача то жалости расстрелял десяток баб, собирающих на поле картошку.
«Землю собой украсил, как цветами!» – говорили об Александре по деревням, носили ему молоко, творог – все знали, что с боем взяв сельпо, Саша не риквизировал пищевых продуктов, а без жалости сжигал. Если кого заставал на экспрприации – расстреливал лично. И дисциплина была в отряде жесткая – никаких разговорчиков, песен. Бойцы, сжав зубы, вытерпели даже объявленный Александром сухой закон. Все было подчинено одной цели, одной программе:
1. Убей
2. Лучше всего неповинного
3. Мучайся потом
4. Земля содрогнется
5. Совесть народная проснется
6. Еще неизвестно, но что-то будет.
А девиз в отряде был прост: сегодня ты живой, а завтра тебя нету.
Троих самых отчаянных бойцов: Сеню Грибного Колотырника, Пантюху Мокрого и Томилина Саша назначил взводными и доверил совершать самостоятельные рейды по области.
Сеня Грибной Колотырник, жестоко страдающий без спиртного, хронический алкоголик, делал все, чтобы оправдать высокое доверие. По призванию Сеня был народным мстителем экстракласса, такого класса, что затряслись бы от него в ужасе Тарас Бульба и Малахия Уолд и шарахнулись куда глядят и спрятали бы головы под мышку. Такого калибра был Сеня Мститель, что всему человечеству мог, не моргнув, плюнуть в рожу; положить (как Мрамалад бомбу) земной шар на одну ладонь, а другой прихлопнуть.
Грибным Колотырником его ласково называли бойцы за то, что он часто срывал зло на грибниках. Порыщет по лесу и наткнется на грибника.
– Ну-ка, ну-ка, подойди сюда, грибничек.
– А что вам собственно нужно, товарищ?
– Ты не ершись, а отвечай: собирал грибы?
– Да, собирал.
– А ты их сеял, сажал?