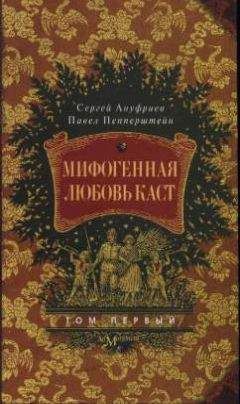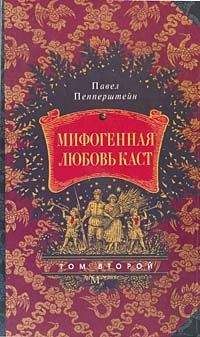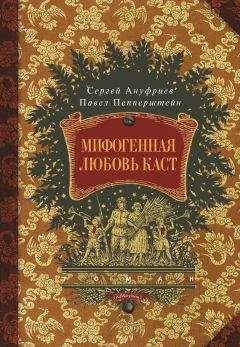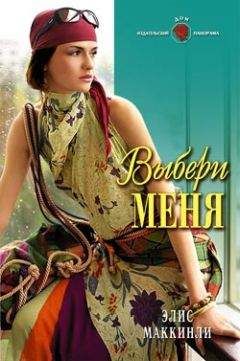Сделав усталое лицо, он налил полчашки липового отвара и стал отпивать мелкими глотками.
– Вы что, больны? – вдруг отрывисто спросил Коконов.
– Нет. Был немного простужен. Но сейчас это почти прошло…
Коконов вдруг осклабился и резко придвинул свое лоснящееся лицо к лицу Кранаха. Глаза его блеснули.
– Вы предлагаете мне что-то вроде договора. Но я – врач. Единственная возможность договориться с врачом – это стать его пациентом.
Кранах от неожиданности даже слегка отшатнулся. Теперь настала его очередь удивиться.
– Я не совсем вас понимаю, – сказал он, невольно повторив недавнюю фразу своего собеседника.
– Я соглашусь на сотрудничество с единственным условием – я буду лечить вас. Впрочем, мы будем лечиться вместе.
– От чего же мы будем лечиться? – спросил Кранах.
– Когда вылечимся, узнаем, – лихо ответил Коконов.
– О каком, собственно, лечении идет речь? Нельзя ли поконкретнее?
– Можно поконкретнее. Ваши коллеги на допросах применяют медицинские препараты. Я беру эту роль на себя: я сам буду себя допрашивать. Вы же будете моим ассистентом. Поэтому прикажите немедленно принести два шприца и две ампулы с раствором первитина. Я сделаю инъекции вам и себе. После этого я расскажу вам немало интересного. Ну что, по рукам? Ловите свой шанс. Да или нет?
Несколько минут Кранах сидел неподвижно, размышляя. Предложение было безумным, и, согласившись, он бы подписался в своем безумии. Но он не привык отступать, и безрассудство было у него в крови. Он был не менее бесшабашным, в конце концов, чем эти баснословные варвары.
Кранах вызвал ординарца и распорядился. Приказание было выполнено довольно быстро: военный врач находился тут же, в здании, как и положено было по инструкции.
Металлический стерилизатор с двумя шприцами, заботливо обернутый марлей, тонкие ампулы с первитином, помеченные значками имперского Управления полевой медицины, – все это сразу придало комнатке вид врачебного кабинета. Коконов, входя в привычную роль врача, тщательно мыл руки в углу, что-то напевая себе под нос.
Он начал с себя – ловко стянул левую руку повыше локтя свернутым полотенцем и, придерживая узел зубами, правой рукой ввел в вену раствор. Затем откинулся в кресле, неторопливо, чинно закурил, видимо наслаждаясь действием наркотика. Посидев минут пять, повернул лицо к Кранаху.
– Ну что ж, батенька, пожалуйте ручку.
Коконов изменился теперь – лицо посветлело, взгляд стал профессионально ласковым и уверенным. Кранах действительно вдруг почувствовал себя пациентом. Он заколебался, но Коконов смотрел на него властно и спокойно. В правой руке он осторожно, на отлете, держал полный шприц. Кранах стащил через голову свитер, стал медленно заворачивать рукав белой рубашки.
– Я могу рассчитывать на ваше слово врача, что после инъекции вы честно расскажете мне всевозможные детали относительно того партизанского отряда, в котором вы были? – спросил он несколько беспомощно.
– Расскажу, расскажу. Куда ж я денусь? Раз обещал, значит, расскажу, – уютно ответил врач и ввел иглу.
Кранах успел подумать, что жизнь его в этот момент передана им во власть неприятеля, а может быть, и сумасшедшего. Но уже в следующее мгновение волна цветочного аромата захлестнула его.
Это был аромат горной фиалки. Зажимая место укола кусочком ваты, смоченной в коньяке, Кранах лег на диван. Ему казалось, что он стремительно несется куда-то. Благоухание пошло на убыль, но зато внутри словно бы распахнулось окно… Окно, огромное белое окно, откуда хлынул чистый горный воздух. Пришло время Большого Вздоха. Он не знал раньше, что в жизни есть такое. Он не подозревал, что может быть так хорошо, легко и просто.
Это было совсем не похоже на опьянение. Это была трезвость, абсолютная высшая трезвость, готовность отдавать себе отчет во всем. Разум словно встал из могилы, вытянувшись в струнку, как рядовой, увидевший генерала, и, отдавая честь, шагнул вперед, преданно глядя в белизну Окна.
Юрген закрыл глаза. Легкость. Тело стало совсем детским, портативным, складывающимся, как легкая сухая линейка. На высветленной плоскости он быстро превращался в букву – сначала это был замысловатый родовой вензель, но избыточные завитки втягивались в тело основной буквы, росчерки подтягивались к центру, сворачивались. Вскоре это была строгая четкая буква К – начальная буква его фамилии. Но вот две боковые косые черточки сложились, втянулись обратно в основной столбик буквы, и Кранах стал линией, точнее, он стал отрезком, и он становился все тоньше – его края таяли, как края обсосанного леденца, слизываемые белизной, только в центре отрезка еще теплилось черное. Он сокращался до точки. И он стал точкой – одинокой точкой на бескрайней и неопределенной поверхности.
Чтобы окончательно не исчезнуть, он открыл глаза и приподнялся. Комната казалась чище и реальнее. Привкус бутафории исчез. Белизна снега лилась в окно, будто молоко из швейцарского кувшинчика. Дощатый пол тщательно и любовно поддерживал предметы. Мебель стояла, осторожно расставив ноги, как жеребята. Печка еще хранила в себе тепло. Стены по-зимнему похрустывали. Коконов пушистым дедушкой сидел в кресле, попивая чай из чашки с золотым ободком. В перерывах между глотками он тихо и монотонно напевал песенку, наверное заимствованную из какого-то антинемецкого раёшника:
У фрау Линден день рожденья,
Она гостей к себе зовет,
И вот варенье и печенье
Она поставила на стол.
И от гостей своих желанных
Она ждала подарков славных,
И гости вечером пришли
И, как один, ей принесли:
Бумажки, склянки, тряпки,
Осколки, ремешки,
Объедки, банки, гвоздики
И рваные мешки.
Очистки, шкурки, ящики,
И скорлупу, и хрящики,
Короче, всякое старье,
Которому пора в у-тиль-сырье!
В боях ни разу не был ранен
Один немецкий генерал,
Но вдруг кусочек русской бомбы
Ему полчерепа сорвал.
И вот об этой страшной вести
Трубили все газеты вместе.
Вот хоронить его пришли
И в голове его нашли:
Бумажки, склянки, тряпки,
Осколки, ремешки,
Объедки, банки, гвоздики
И рваные мешки.
Очистки, шкурки, ящики,
И скорлупу, и хрящики.
Короче, всякое старье,
Которому пора в у-тиль-сырье!
Кранах встал, подошел к окну, чтобы посмотреть в сад. Он двигался осторожно, словно боясь расплескать полную крынку. Красота заснеженных деревьев тронула его. И эта ограда – чугунная, витая… Нежные, зимние сквозняки сочились сквозь старую раму. Дружелюбные, игривые. Он захватил с собой к окну чашку с липовым чаем. Отпил немного. Любимый с детства вкус словно бы открылся ему заново. Ему хотелось бы обмакнуть в этот чай кусочек печенья – того, незабвенного, имеющего вид ракушки, из которой, как жемчужина на пружинке, родилась Венера на картине Боттичелли. Он так любил это новорожденное бледное лицо и золотые волосы, на которые, как на горячий чай, дуют ангелы.
Она родилась из ракушки, как память, точнее как подсказка. Если бы картина Боттичелли изображала море как театральную сцену, то раковина оказалась бы на месте суфлерской будки. Эти загадочные кабинки, которые он столько раз видел в театре, часто имеют такую же форму. Любовь – это шепот Суфлера, Подсказчика, отливающийся в форму женского тела, всегда новорожденного и зрелого одновременно.
Ракушка, зонтик, цветок – это расходящиеся от центра, плотно сомкнутые, закругленные лепестки… В детстве болезненная старая тетушка, похожая лицом на мраморного льва, говорила что-то об аромате лип и пении морских раковин, о жемчуге, который нужно класть за щеку, чтобы всегда быть здоровым и жить вечно.
Увлеченный воспоминаниями, Кранах не сразу заметил, что за его спиной Коконов уже давно о чем-то толкует. Этот врач-самоучка рассказывал о том, о чем Кранаху так страстно хотелось услышать, – о партизанском отряде Яснова.
Есть распространенное выражение «усталые, но довольные». Кранах вернулся в Могилев измученным, но ликующим.
В руках у него была папка, набитая листками грубой сероватой бумаги, напоминающей оберточную. Все листки были исписаны желтым карандашом – почерк Кранаха, обычно четкий и ровный, на этот раз был сбивчивым, летящим, как почерк Пушкина. Строчки порой наезжали друг на друга, немецкие слова путались с русскими, кое-где запись шла значками, переходя в схемки, неумелые наброски карт и т.п.
Все это была запись разговора с Коконовым, который продолжался двенадцать часов подряд. Коконов говорил охотно, красноречиво, подробно, с обширными «лирическими отступлениями». Кранах, вынув из ящика монокль и вставив его в глаз (зачем? Зрение у него было отличное. Но недаром говорят: привычка – вторая натура), скрипел карандашом, еле поспевая конспектировать рассказ врача.