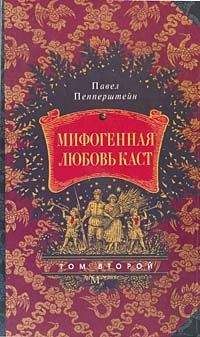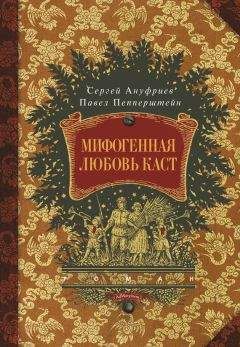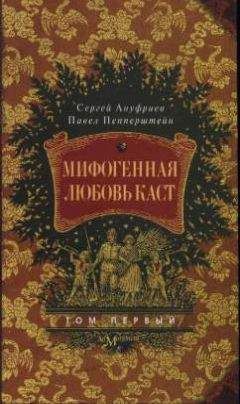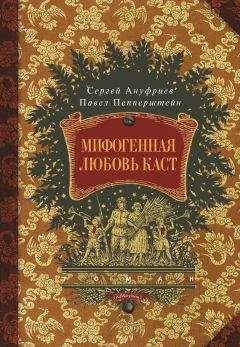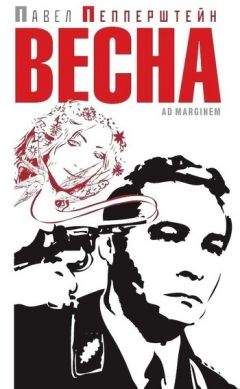Вскоре он завладел всеми подвалами и стал подниматься вверх. Он сочился сквозь щели, полз по проводам, бежал по изящным перилам лестниц, изготовленным мастерами-краснодеревщиками. В новопостроенном здании никого не было. Странно, но никто не сторожил это «чудо света», возведенное на бешеные деньги в самом центре Москвы. Пройдя по техническим помещениям нижних этажей, парторг наконец-то пробился (сквозь щели огромных «досок») из «подпола» в необозримых размеров залу, которая изображала Горницу в Избушке. Все здесь было таким знакомым и в то же время другим. И стол, и лавки, и печь, и ведро, и веник с совком в углу, и крынки на полке, и притолоки — все было на своих местах и выглядело так же, как в настоящей Избушке, но только здесь все стало нечеловечески огромным и сделанным из совсем других материалов. Даже неприличные фотографии на стенах были те же самые, только страшно увеличенные. В окне темнело огромное небо со звездами. Создатели этого здания гордились тем, что это окно стало самым большим окном в мире, застекленным самым большим в мире Цельным Стеклом. Все здесь имитировало древесину, но настоящего дерева оказалось мало, и парторг замедлил свое продвижение вперед. Он просачивался то здесь, то там — так осторожный купальщик пробует ногой воду, прежде чем поплыть. Но постепенно он находил себе дорогу. Едкий дым медленно заполнял Горницу.
И тут Дунаев услышал голос. Знакомый до головокружения, мягкий, старческий.
— Здравствуй, Володя. Вот ты и вернулся домой.
Он узнал голос Поручика. Дунаев заметался своими огоньками, пытаясь разглядеть говорящего. Но Поручика нигде не было видно.
— Поздравляю с Победой. Одолел ты все-таки фашистов! Давно замечено: воин ты прирожденный. — Голос захихикал, потом закашлялся. Этот старческий смех, переходящий в кашель — это было таким знакомым и родным, что парторг прослезился бы, если бы огонь мог плакать.
— Где ты, Холеный? — прошелестел парторг пламенем. — Где ты?
— Эх ты, Вова… — с добродушным укором промолвил голос. — Все Холеного ищешь? Все тебе Поручика подавай? Вроде Победитель в войне, а все как дитя малое, так ничаво и не понял. Не было никогда никакого Холеного и Поручика. Не было никого из таких отродясь. А есть я, Избушка. Я тебе разное показывала — то деда с бабкой, то Холеного, — чтобы ты пустотой не давился да от одиночества не взвыл в лесу-то. В лесу человек ум теряить: А ты один ум потерял, другой нашел. Я тебя всему обучала, кормила да воспитывала. А как приметила, что ты уже вроде как окреп, оперился в наших-то делах, так и в мир выпроводила. На Запад шагать да в войнушки играть. Вот ты поиграл, всех обыграл и вернулси. Ох, дыму-то напустил… — Голос снова закашлялся, затем по-домашнему чихнул.
Дунаеву на миг показалось, что он в настоящей Избушке, что за окном стоит настоящий лес, темный и загадочный. Сквозь дым все стало теплым и старым, как было когда-то. И свет огня, который источал он сам, напоминал о долгих веселых вечерах у печурки. Но тут он наткнулся в своем движении по полу Горницы на огромный ковер и быстро побежал по нему, рассылая свои оранжевые язычки во все стороны и припоминая, что в настоящей Избушке никогда не водилось никакого ковра.
По ковру парторг быстро приближался к Печи — она, как и все здесь, поражала своими размерами и казалась домом в доме, каким-то странным белым небоскребом, помещенным внутрь другого небоскреба — темного. Увлеченный пожиранием ковра (ковер оказался сладкий, похожий по вкусу на торт), парторг не сразу заметил, что у подножия Печи сложены штабелями какие-то оранжевые баллоны, чем-то напоминающие по виду муравьиные яйца или личинки насекомых. Оттенок оранжевого цвета, и особая аккуратность этих огромных баллонов, и четкие красные буквы на боках — все свидетельствовало о том, что баллоны иностранные. Красные надписи гласили:
DANGER!Tea clouds (for sky decoration)Keep away from fire
Под текстом по трафарету нарисованы черепа со скрещенными костями и перечеркнутые язычки пламени.
Но — поздно! Дунаев почти не знал английского и был к тому же огнем. Минуты не прошло, как он уже обнимался с этими баллонами, выедал ковер под ними, нежно лизал их гладкую обшивку.
— Ну, Володя, — послышался снова голос Избушки (а может быть, это был все же голос Поручика, ведь старик любил дружеский розыгрыш и резкую магическую шутку). — Помнишь, намекали тебе, что есть во мне Светлица сокровенная. Но тогда не время было тебе ее показывать. Сказывали тебе, вернешься с войны победителем, тут и Светлицу увидишь. Пришел срок. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СВЕТЛИЦУ, РОДНОЙ!
Раздался чудовищный взрыв. Дунаев встал внутри Избушки колоссальным столбом, пронзая ее насквозь. В этот момент он увидел вокруг себя совершенно незнакомую комнату, сотканную из незамутненного, совершенно ясного и совершенно мощного Света. Комната была не просто освещена, она состояла из Света, и все в ней являлось Светом — прямым, не ведающим преград, не знающим теней, переливов, темных пятен, оттенков. «ЯНТАРНАЯ КОМНАТА!» — грохнуло в сознании парторга, хотя никакого янтаря здесь не было и в помине — сплошной свет. В отличие от Солнца, которое показал Дунаеву страшный толстячок с пропеллером, этот Свет не ослеплял, не обжигал, не причинял никакого вреда. Хотя, вероятнее всего, если бы Дунаев пребывал в человеческом теле, это тело превратилось бы в пыль. Но, к счастью, Дунаев существовал в теле огня, и ему, как огню, было безудержно хорошо в Светлице. Показалось, что он впервые узнает, что такое НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ. До сего момента лишь прозябание осуществляло себя.
Свет! Йа; их вилль дизе глюк! Гиб мир фрайхайт!
Айседора Дункан, ты на красное платье взошла!
Как на лобную долю, на лобное красное место.
И ни ангелы неба, ни даже советская власть
Не спасут твою звездную честь, дорогая невеста!
Где Наташа, где Пьер, где Андрей, где старик Николя?!
Даже смысла нет звать, да и вряд ли помогут.
Растопырены все на рубиновых звездах Кремля.
И цветут тополя. И, как видно, иначе не могут.
Лишь долю секунды видел он Светлицу. Но и этой доли было достаточно, чтобы испытать такую Радость, которой не смог бы вместить в себя весь земной мир. В горько-соленой Юдоли не слыхивали о такой Радости!
В следующий миг он поглотил Светлицу, встал во весь рост. С мелодичным звоном осыпалось во тьму Большое Стекло. Снова Взрыв! И еще один! Давай! Жми! Еще! Еще, ебаный в рот! Оранжевые личинки лопались в сияющем желудке огня, и каждый взрыв подбрасывал его выше в темные небеса.
Он объял всю громадную Избушку и стоял высоко над ней сияющим столбом. Вот это, блядь, апофеоз! Да, ТАКОГО величания ждал он в глубине души. И вот оно пришло! И уже не осталось даже микроскопической тени, которая замутняла бы Наслаждение! Это было то, что называется СВОБОДА! Раньше он не знал, что это значит.
Он видел всю Москву. И вся Москва смотрела на него.
Ярко, до боли осветилась бывшая Манежная площадь у ног огня, с колоссальным котлованом посередине, куда собирались погрузить стеклянный земной шар. Внутри шара планировали устроить великолепный аквариум, настолько просторный, чтобы поселить в нем серого кита с супругой. Котлован окружен был уже почти законченными золотыми снопами в красных лентах, дорожки в виде лучей тянулись к котловану от наполовину видного «солнца», построенного в виде огромной сцены для грандиозных концертов. Красная звезда, увенчивающая всю констелляцию, врезалась своим острым концом в гущу «леса», плотно стоящего там, где когда-то тянулся пыльно-желтый Манеж. Вокруг стройплощадки тревожно мотались черные нарядные флажки. Оранжевые рабочие, похожие на муравьев, разбегались во все стороны, заслоняя лица, словно преступники, которых пытаются сфотографировать со вспышкой.
Парторг видел темную Москву, ее сверкающие проспекты, овальный светящийся стадион вдали, где шел концерт, где все зрители встали со своих мест и смотрели на него, и расхристанные певцы и подтянутые певицы метались по сцене, продолжая петь, указывая на него пальцами, как будто все песни теперь стали только о нем.
Он видел, как люди стоят в окнах домов, за стеклами, отражающими его свет, и смотрят, не в силах оторвать взгляд, на самый великолепный пожар, случившийся со времен Наполеона.
И берсерк потный, и Пьеро усталый,
И очерк небоскреба сквозь герань.
И бисер алый. И небрежный почерк Аллы.
И гул вокзала сквозь святую брань.
Горят в депо церковные вагоны,
И жидким зеркалом убит еще один коттедж!
Совокуплений царственные стоны
Идут колоннами сквозь сумерки надежд.
Она пришла! Горят ее ланиты!
Три зеркала скукожились в огне,
Все берсерки и все Пьеро убиты,
И лишь цветы на праздничном столе
Все помнят ту Москву, ту, что еще стояла
Минуты две назад, и млела, и цвела,
Которую смело и разметало,
Когда она пришла! Когда она пришла!
Нет больше ни Москвы, ни Нюрнберга, ни штолен,
Ни шахматных ферзей, ни царственных столпов,
Ни золотых залуп, ни колоколен,
Ни терпких тайн, ни карточных долгов…
Ты ядерным потоком разделила,
Алмазной бритвой мир пересекла,
И те, кого ты только что убила,
Участливо глядят из-под стекла.
Лишь мозг сухой, мозг тонко иссеченный
Уютно ерзает в музейном закутке…
И в глубине своей витринки сонной
Он что-то там поет о северной сосне.
Дунаев вздымался все выше и выше, все ярче освещая Москву, бросая свой отсвет до самых далеких предместий, до заколоченных дач, до темных фабричных районов, до отдаленных парков, до затаившихся бандитских ресторанов, до железнодорожных станций, где сортируют товары, поступающие в Москву. Колоссальное Чайное облако стояло над ним, растекаясь в темном небе, сдержанно светясь, преломляя свет пламени. Постепенно это Чайное облако стало принимать форму необозримой короны, увенчивающей огненный столп Дунаева, поднимающийся над горящей Избушкой.