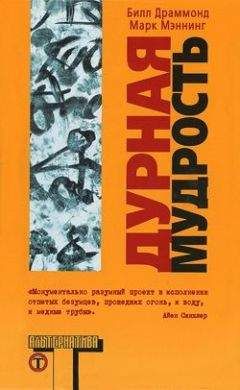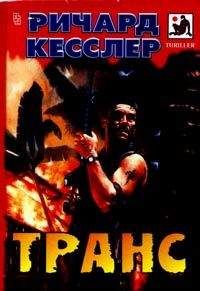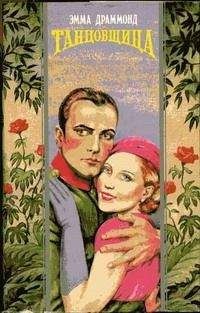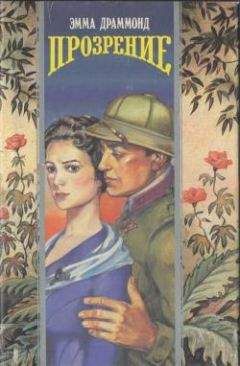– Да, я бессмертный, но мое телесное обиталище, этот стареющий труп, в котором я вынужден пребывать, – увы, нет. – Он наполнил свой опустевший бокал и закурил турецкую сигарету. Голубой дым растворился в чернильной пустоте под неимоверно высоким потолком. – Я сам во всем виноват, разумеется. Все эти дополнения-примечания, сноски мелким шрифтом и все такое. Но я тогда был неопытен, юн и рьян, а Его Величество Сатана выступил очень эффектно. Ну да, он умеет произвести впечатление. В смысле, я думал, что мы заключаем сделку, и полагал себя даже в выигрыше: старый развратник не позарился на мою душу, о нет, он лишь попросил меня об одной небольшой услуге интимного свойства… – Оскар изобразил жестом минет. – Невысокая плата за вечную жизнь, каковая мне виделась утонченно изысканным танцем сквозь время с вечным румянцем неувядающей юности на моих гладких щеках. – Откуда-то донеслась музыка. «Кто хочет жить вечно», лебединая песня Фредди Меркури. Оскар разрыдался.
– Ты отсосал у Дьявола? – спросил Гимпо, слегка прифигевший. Судя по тому, как Оскар приподнял бровь, он только теперь заметил нашего дзен-собрата, который все это время тихонько сидел в уголке в шезлонге и никак себя не проявлял. Хищный взгляд Оскара нацелился на Гимпо, словно самонаводящаяся ядерная ракета в поисках аппетитной попки. Он запрокинул голову, допил залпом свое крепкое зелье и грохнул бокал, зашвырнув его в камин. Потом взял новый бокал, налил себе еще и, проскользнув через комнату этаким мыльным угрем, плюхнулся в кресло рядом с шезлонгом Гимпо, словно трясущийся пластиковый пакет со свернувшейся кровью. Гимпо отшатнулся, словно его снесло отдачей от «магнума» 44-го калибра, и у него на лице, как зарница, полыхнула убийственная гомофобия.
– Мальчик мой, – простонал Оскар Гимпо в ухо, – ты так похож на одного человека… – Он положил пухлую ручку Гимпо на колено. – Увы, он давно мертв: его уже нет, как и всех остальных… таких красивых и сладостных. – Слезы текли в три ручья. Оскар давал представление. Он вскочил на ноги, выпрямился в полный рост, драматическим жестом поднес левую руку ко лбу, а правую упер в бедро. Он на секунду застыл в этой позе, а потом, безо всякого предупреждения, выбрался из своего облегающего розового комбинезона и, после непродолжительного сражения с барьером трепещущей голубой плоти – я просто не знаю, как еще обозвать его пузо, – выудил на свет Божий свой омертвевший член, похожий на жирного дряблого червяка в жутких прыщах и спермачной слизи. Он подлетел к Гимпо и принялся тыкать своим причиндалом ему в лицо. Меня едва не стошнило.
– Бози! – высокий голос Оскара был для нас с Биллом, как скрип железа по стеклу нашего запредельного ужаса. – Любимый мой, кто не смеет назвать свое имя вслух! – Жалобные стенания Оскара вонзались нам в уши безжалостной электродрелью. – Подари мне наслаждение!
Со свирепым рычанием Гимпо выбрался из липких колышущихся объятий своего тучного обожателя. Глаза нашего друга бешено вращались, и я уже чувствовал запах озона – предвестие беды: апокалипсическая мощь природы, настроенной на безжалостную и кровавую бойню, приливные волны крови, землетрясения, разорванные сухожилия, связки и сфинктеры. Волосы Гимпо искрились грозовыми разрядами, глаза метали гомофобские молнии; у него изо рта вырвалась черная эктоплазма и разлетелась по комнате, как электрическая саранча; дикие вопли – как звуковая дорожка к видеоролику о диких зверях, потрошащих друг друга; крупный клан – зубы акулы в ошметках мяса, черные глазки – сквозь толщу океанской воды, порозовевшей от крови; очень четкие цветные снимки сердца, вскрытого хирургическим скальпелем; Чарли Мэнсон; Кровавое лето Сэма; техасская резня бензопилой; Джек-Потрошитель; Тед Банди, режущий трупы; детоубийца; кровь, дерьмо и спермач.
Держась за торчавшие шейные позвонки, как за ручку, Гимпо вертел у себя над головой оторванной головой Оскара и одновременно пинал ногами его безголовое тело, которое все еще судорожно подергивалось на полу.
– Гомик! Пидор! Мудак злоебучий! Козел! Извращенец! Уебок драный! – Гимпо сопровождал свои действия всеми ругательными словами, которые только есть в словаре «грязной лексики». Он был вне себя. Он превращал труп Оскара – верней, то немногое, что еще оставалось от этого трупа, – в кровавую жижу, замешанную с дерьмом: этакий изуверский Джексон Поллок, кладущий яростные мазки на истерзанный холст – композиция из разорванных задниц и расчлененных тел.
И вдруг сквозь кровавый туман, застилавший пространство, пробился пропитой хриплый голос Кейта:
– Бесполезно, приятель. Его не убьешь. Уж поверь мне: я знаю. Сколько раз я пытался его прикончить. Стрелял в него, и все дела. Понимаешь, в чем дело. Этот мудак обожает, когда его убивают. Ему это нравится, бля. Его это, бля, возбуждает.
И точно. Эта дрожащая масса из разодранной плоти, этот раскромсанный кровяной студень – он дрочил! Из его разбитого рта, в котором уже не осталось зубов, вырывался кошмарный скрежещущий смех. Гимпо стошнило.
– Спасибо, Бози, – прошепелявила оторванная беззубая голова, угнездившаяся поверх развороченной, выпотрошенной туши. Гимпо заорал дурным голосом и пнул эту кошмарную тушу еще раз. От нее отлетело что-то красное, маленькое и круглое – отлетело и плюхнулось мне на колени. Это был глаз. Глаз Оскара. Он как будто смотрел на меня. А я, потрясенный, смотрел на него. А потом рассеялся, вспомнив «Историю глаза» Жоржа Батая и «Сатори в Париже» Керуака. Кейт потихонечку двинул обратно в бар. Мы с Биллом – тоже. Гимпо мы звать не стали: сам придет, когда малость остынет.
Кейт открыл третью бутылку бурбона, и чего-то бормочет себе под нос, и смеется. Мы подходим к нему.
– Забавно все вышло, да. – Кейт протянул нам какой-то листок. – Вот. Телефон того шамана.
Билл развернул пожелтевший листок с истинным благоговением. Его глаза широко распахнулись, а потом превратились в узенькие щелки. Он очень серьезно взглянул на Кейта, прямо в его затуманенные глаза, и положил руку ему на плечо.
– Спасибо, Кейт, – произнес он с чувством.
– Да ладно, подумаешь, ик… Рок-н-ролл, – Кейт вдруг пошатнулся и грохнулся на пол с высокого табурета. И так и остался лежать мордой в пол.
– Да, Кейт, рррррок-н-рррррол, – раскатисто прорычал Билл на свой шотландский манер, глядя на распростертую в пьяной прострации рок-легенду.
– Вперед, на Полюс! – объявил он и решительным шагом направился к выходу, попердывая на ходу. БЗУ, что значит «беззвучно, зато убойно». В смысле, особенно «благоуханно».
– Блядь! Кто набздел? – Кейт слегка приподнялся над полом. Из уголка его рта так и свисала поломанная «мальборина». Мы улыбнулись ему и вышли наружу, в арктическую ночь.
– Удачи, ребята, – добавил он.
Как потом оказалось, удача нам очень даже понадобится.
Пора на вокзал. Улла и Мулла вызывают такси. Залезаем в машину все впятером. Получается так, что Улла сидит у меня на коленях. Ее крепкие бедра приводят меня в восхищение, и в голову лезут всякие нехорошие мысли.
Глава третья
Прелестные девственницы старшего школьного возраста, будущие топ-модели, жрут говно
Мы покинули место кровавой бойни в баре «У Оскара», преисполненные решимости и с вновь разгоревшимся жарким огнем, полыхающим то ли в груди, то ли где-то в районе кишечника. Стиснув зубы и анальные сфинктеры – был жуткий холод, – мы прошли бодрым маршем по пустынным улицам Хельсинки, высматривая на небе звезду, что укажет нам путь. Из-под канализационных люков доносилась торжествен но-героическая музыка, снег кружил белым вихрем. Водочный жар разливался по венам, как электрический ток; ядовитая анаконда согревала меня изнутри, и я пребывал в полной гармонии с собой и со всем человечеством. На манер ревущего пламени. В отдалении уже показался вокзал: дворец из розового гранита, дерева и меди в стиле национальной романтической готики.
Забираем сумки из камеры хранения, трепетно распаковываем икону Элвиса, завернутую в футболки с портретом Бона Скотта, чтоб показать Улле и Мулле. Они замирают в благоговении/в растерянности. Мы все по очереди обнимаем Уллу и жмем руку Мулле. Обещаем, что обязательно повидаемся с ними на обратном пути. Мы с ними знакомы всего три часа, но что-то подсказывает, что это хорошие люди.
– А не слишком ли это поспешный вывод? – Голос.
Может быть.
Роскошный мраморный бельэтаж. Бухие бродяги, лапландцы в национальных костюмах, в желтушных пятнах от засохшей мочи – в шляпах, похожих на четырехрожковые люстры, цветастых куртках и сапогах с загнутыми носами, – жались по темным углам, с подозрением глядя на нас с внешней границы своего окаянного проспиртованного мирка. Дурные предчувствия насчет вероятного личного апокалипсиса и весьма мрачного будущего прокрались мне в душу. Даже нет, не прокрались: вломились, вопя и пинаясь. Грянул приступ паранойи. Я всегда опасался угрюмых небритых бомжей. Потому что у них дурной глаз. Я невольно поежился и поджег одного из них взглядом – и мне сразу же стало легче. Милостью Божьей, ступай, дорогой, ха-ха-ха. Я хохотал как безумный, глядя на этого старикашку, который орал дурным голосом и махал руками – этакий огненный Санта-Клаус, пытающийся потушить свою полыхающую бороду. Моя пиротехническая злоба, похоже, смутила Билла и Гимпо, и они спешно удрали к билетным кассам. Обожженный бродяга наделал в штаны.