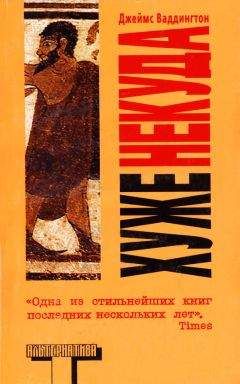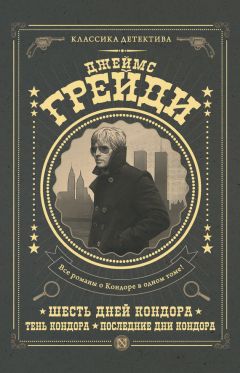Итак, убит гонщик. На сей раз — не из команды Флейшмана. Даже не потенциальный чемпион, а хоть и наделенный определенными дарами (о покойниках либо хорошо, либо ничего), однако не обремененный избытком интеллекта. В то же время труп находят качающимся на ветру чуть ли не в полукилометре от жилища и лаборатории знаменитого тренера.
Словно кто-то пытается разом указать на Микеля и отвести от него подозрения. Или же, что еще сложнее, создать подобное впечатление.
Нет такого закона, который разрешал бы делать биопсию против желания пациента. Даже в мире велоспорта. Вот исследовать мочу на предмет обнаружения допинга — это сколько угодно. Кожу, телесные ткани, кровь — ни в коем случае.
Спортсмен, который ни с того ни с сего начинает одерживать победы, не совершает преступления. Трудно ожидать, что этот гонщик заявит: «О да, разумеется, изрешетите мою черепушку, берите образцы прямо из мозга, можете отсосать клетки печени, соки гипофиза и вилочковой железы. Что-нибудь еще? Изволите просверлить мои кости, отколупнуть кусочек? Всегда пожалуйста. Давайте, добрые люди, творите со мной, что хотите. Какое мое дело?»
Не надейтесь услышать от него такие речи. Скорее всего вас пошлют — далеко и надолго.
В особенности если упомянутый гонщик выигрывает крупные состязания: «Париж — Ницца», «Милан — Сан-Ремо», «Флеш Валлон», «Льеж — Бастонья — Льеж» и все в таком духе.
И к тому же носит имя Этторе Барис.
Об этом гласят бесчисленные протоколы, отчеты и файлы полиции. Еще бы, к тому времени, когда Барис одержал верх во второй крупной гонке, копы навалили в штаны от страха. Не успел Этторе опередить Акила на тридцать семь секунд в заезде Милан — Сан-Ремо, закрепив свою якобы «случайную» победу над ним же на трассе Париж — Ницца, как Интерпол открыл круглосуточную слежку за новым чемпионом.
Париж — Рубаи. Барис опять первый. Полицейские просто обезумели. И это были еще цветочки. Впереди маячила «Джиро де Италия».
«Тур де Франс», конечно, величайшая гонка всех времен, однако и «Джиро» — состязание жесткое, острое, словно кромка льда. Может, вы скажете: «А чего там, крути себе педали, и дело с концом»? Но вообразите крутой подъем на вершину Ронколи-де-лос-Мачос-Кабриос — а это в двух тысячах трехстах метров над землей, — и капли пота, замерзающие на лбу, и отчаянный спуск по снежному склону, непреодолимые повороты, на которых оцепеневшее от ужаса и перегрева тело перестает слушаться… Нет, здесь вам далеко не простая гонка.
Наверное, именно религия позволяла Этторе сохранять подвижность и теплую кровь в жилах. Не подумайте, Барис ничем не походил на сломанного робота, как Потоцкий или Сарпедон перед кончиной. У парня всего лишь появилась личная, неразрывная линия связи с небесами.
В принципе внезапное превращение спортсмена в доброго католика мало кого удивило. А вот постоянное присутствие служителя на старте вызывало различные кривотолки. Низкорослый, коренастый, с густой бородкой, хищным носом и разными глазами — карим и зеленым, — отец Блерио всякий раз сердито зыркал по сторонам, призывая окружающих к благоговейной тишине, прежде чем преклонить колени вместе с гонщиком, пока кто-нибудь из команды придерживал брошенный велосипед.
Особенно занервничали сельские парни из Испании, Франции, Италии — бывшие благочестивые мальчики с прилизанными волосами, в костюмчиках и галстуках-удавках. Рядом с Этторе им оставался лишь удел «плохишей», глумящихся над попами.
На четвертое утро, после того как Барис выиграл заезд с неизменным преимуществом в добрых полторы минуты, три австралийца и американец опустились на колени подле небесного любимчика. Отец Блерио покосился на их нахальные рожи и обозвал гонщиков святотатцами.
— Да ладно, это же спорт, пусть будет по-честному! — Чез Стонго воздел руки в наигранном гневе. — Раз ему от этой лабуды столько проку, мы-то чем хуже? Давайте, падре, представьте, что вы христианин. Все люди — братья.
— Ta gueule[14], — прошипел святой отец.
Стонго поднял кулак:
— Тебе того же, приятель.
Отец Блерио собрался уже встать, и занятная вышла бы потасовка на потеху репортерам, но тут Этторе кротко затеребил рукав служителя.
— Братья мои, — улыбка озарила лицо велогонщика, — не будем ссориться. Если вы желаете разделить с нами неземную благодать, склоните в смирении головы. Однако помните, что я не молюсь о победе и прочих мирских делах, а жажду лишь покоя и радости на сердце и спасения ваших заблудших душ.
И он осиял присутствующих тем елейным, незлобивым взглядом, от которого даже у товарищей по команде зачесались кулаки. Этого иностранцы выдержать не смогли. Плюнули наземь и разошлись.
А Барис продолжал молиться, после чего падре окропил его велосипед святой водой. Если верить слухам, сам directeur sportif проштудировал свод правил, выискивая хотя бы косвенный запрет на подобные манипуляции, что позволило бы опротестовать достижения Этторе. Но ничего не обнаружил.
Может, кого-то и веселила вся эта возня, а вот Саенцу было не до шуток. Причем уже долгое время. В глубине сердца он и прежде подозревал, что проигрывает вовсе не лучшему гонщику — скорее некому, пока еще недоступному для распознавания снадобью, которое разъедает человеческий мозг. Двусмысленные намеки Габриелы только подлили масла в огонь. Правда, у Бариса побочных эффектов почти не наблюдалось. В свободное от священнодействий время он вел себя как разумное существо; даже разок подколол Акила.
— Воистину неисповедимы пути Господни, — промурлыкал Этторе на первом километре этапа, когда колени гонщиков понемногу начали разогреваться. — Погляди хоть на меня.
Предыдущим вечером Эското заявил, что Саенц обязан выиграть гонку. За ужином они сидели напротив друг друга, и капитан заговорил шелковистым тенором, так чтобы слышала вся команда. Медлительная, негромкая речь на глазах набирала и обороты, и жесткий накал.
— …коленки подгибаются, да? Обиделся, да? А чего ты достиг за последние пару лет, м-м-м? Не считая «Тур де Франс», когда несчастного Яна угораздило заблудиться? А теперь мы еще и расстроены, потому что добренький Фернанд Эското нас поругал! И вот у нас от злости щиплет глазки, и ручки-то опустились, и ноженьки-то не держат, и сердечко-то защемило! Раскис, бедняга, пожалейте его! Акил Саенц? Напомните, кто это? Герой вчерашнего дня?
Команда молчала и слушала. Спортсмены буравили глазами стол, крошки на скатерти, собственные стаканы. Все ожидали, что гонщик поднимется и врежет Эското. Лишь один человек не опускал взгляда — верный Азафран. Патруль смотрел на Акила. По щекам обоих друзей бежали слезы.
— Давай, истеричная девка, откричись лучше сегодня. Завтра мне ни к чему слезоточивые мадонны на старте.
Это был единственный раз, когда из уст Фернанда вырвалась непристойность. С минуту над столом висела гробовая тишина.
— Ну вот, а теперь обсудим тактику.
* * *
Покоряя грозную Ронколи-де-лос-Мачос в мае, когда погоде почему-то мерещится, что на дворе февраль, только и грезишь о том, как бы оказаться подальше отсюда, где-нибудь в жарких краях, поближе к экватору и, развалившись на золотом пляже, ничегошеньки не делать, ну просто ни хрена, о, какая сладостная перспектива по сравнению с жуткими склонами Ронколи-де-лос-Мачос, где, затрудняя движение, рвутся и мечут орды белоснежных ангелов метели, хлещущих по лицу холодными мокрыми крыльями.
Чем скорее проедешь этап, тем короче боль. Тисс, Карабучи, Виллерони, Лоствизайл, Гештальт и Нарабеллини промелькнули и затерялись позади подобно ледяным эльфам. Мысль о горячем душе — единственная тонкая ниточка, не дающая провалиться в беспросветную бездну отчаяния.
«Козимовцы» с самого начала держались впереди всех, а километров за десять до подъема отрываются от основной группы более чем на четыре минуты. На пятки «фармацевтам» наступает неразлучная команда «КвиК» — Саенц и прикрывающий его с севера Азафран в окружении семерки велосипедистов, которые защищают друзей от любых столкновений и давки. Но вот перед глазами мелькает группа «телохранителей» Бариса. «Готовьсь, ребята!» — рявкает Патруль.
Выкрик Азафрана подстегивает и без того напряженные нервы. Ноги велосипедистов пробирает крупная дрожь. «Козимовцы» чувствуют то же самое. Это какое-то помешательство. Каждый трясется так, что почти не в состоянии управлять машиной. И холод здесь ни при чем. Шестнадцать гонщиков, наматывающих по сорок пять км в час, мчат бок о бок, нельзя даже локти расставить, чтобы не задеть товарища, и вдруг, словно по команде или словно чаша чьего-то терпения переполнилась, мы разом срываемся «в карьер» подобно стае птиц, которая внезапно меняет курс, скорость возрастает еще на три километра в час, и наступает светопреставление. Этторе устремляется вперед, подальше от опасности. Парни из его команды пытаются отрезать путь преследователям, загораживая дорогу: сначала пара, потом один, потом трое. Двое «квиковцев» дерзко пробиваются сквозь случайную брешь и равняются с Барисом. Патруль и Акил тут же пристраиваются за ними. Дружная четверка принимается обходить Этторе справа, но тот еще убыстряет ход. Одновременно «козимовцы» протискиваются между Акилом и последними четырьмя его товарищами. Велосипедист из «КвиК», возглавлявший погоню, забирает влево, сбавляет скорость, чтобы отдышаться, и вместе с этим отсекает Бариса от его команды.