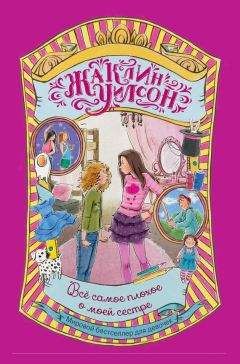Раш сейчас для Дэна — всё. А для Раша всё — подвес. Последние шесть лет Раш только подвесом и занимается, ищет предела возможностям своего тела. И пока не находит. Он первый в мире придумал прыгать с крюками в теле. Сначала опробовал прыжки по касательной, которые произвели такое впечатление на всех на международной сходке в Швеции, что от Раша всю неделю туса не отходила и даже какая-то телекомпания фильм сняла. В Штатах и Европе подвес уже лет двадцать считается полноправной частью тату-пирсинговой культуры. У нас в стране появился лет семь назад. И вдруг такой прорыв, как Раш. До него никто до такого зверства не додумался и на себе не попробовал. Дэна просто распирала гордость, что наш земляк стал родоначальником новой волны тату-пирсинговой культуры. Ведь раньше в этой культуре про Россию никто и слыхом не слыхивал. Сейчас Раш самый крутой в подвесе, и к нему приезжают учиться. Все прыжки Раша основаны на точном физическом расчете. В его команде классные бывшие альпинисты и лучшее оборудование. Но даже в его команде далеко не каждый сможет повторить его подвиги. Тут нужно уметь отключить чувство самосохранения, стать бесстрашным. Дэн ездил смотреть на последний прыжок Раша. Тот освоил свободное падение с большой высоты. Реально страшное зрелище. Динамичная система эластичных верёвок, пропущенных через ролики, титановые крюки в спине. Вроде всё рассчитано, а никто, кроме Раша, больше не решился проверить своё тело на прочность. Рассказывал Дэн и про другую команду: как однажды в Москве они арендовали баржу, разместили там своё «альпинистское» оборудование и устроили показательный саспеншн, катаясь по Москве-реке; как фотографировали друг друга, висящих на крюках на фоне Кремля и других столичных достопримечательностей. Народ на берегу офигевал от этой шаланды пыток. Но вот ментов никто не вызвал — обывателя с каждым днём всё труднее шокировать. Даже если завтра на Землю высадятся воинственные инопланетяне, прохожие, прежде чем испугаться, достанут свои мобильники и начнут их снимать для своих архивов в соцсетях. Рефлексы поменялись. Но не все.
Рефлекс самосохранения в очередной раз напомнил о себе, когда мы зашли в клуб, внутреннее убранство которого скорее напоминало какой-то не первой свежести сарай, гадюжник. Ряды допотопных деревянных кресел, сдвинутых в один угол помещения, и маленькая дощатая сцена, где возились дрэдастые дружки Дэна, закрепляя оборудование, вкупе с сегодняшней лекцией от Мурзилы не прибавили мне ни капли оптимизма. Но отступать я не собиралась. К полёту готова. В гримёрке на удивление царила больничная чистота. На столе — одноразовая белая скатерть, на ней — спирт для дезинфекции, одноразовые иглы для пирсинга и шесть крюков. И никакие они не мясные. Они — рыбные! Дружелюбная девушка сделала мне разметку на спине, проколола кожу толстыми иглами и засадила в проделанные отверстия стальные загогулины. Достаточно больно и неприятно по сравнению с обычным пирсингом. Она же мне и сказала, что это — крючки на акулу со спиленными зубцами.
Что, попалась рыбка? Рыбка, которая собралась полетать. Я сразу вспомнила безобразную сцену, которую мне недавно посчастливилось наблюдать на набережной Фонтанки. Я прогуливалась вдоль реки и увидела еще издалека, как выгнулся спиннинг у толстого рыболова. Меня, конечно, заинтриговало, что за форель он там тянет с таким унылым видом. Ни разу не видела, чтобы у этих несчастных рыбаков был улов. Не увидела и на этот раз. Глупая жирная чайка заглотила блесну и теперь пыталась уплыть с добычей, а красный как рак спиннингист, потея и чертыхаясь, прилагал все усилия, чтобы избавиться от сомнительного трофея. И птичка на крючке, и рыбка, которая собралась в небо, — всё это я сегодняшняя, с рыболовными крюками на хилой спине.
С уважением разглядев все цацки на моем субтильном туловище, пирсерша воздержалась от стандартных вопросов — про давление, астму, эпилепсию и серьёзность моего решения. Тем более что я была с Дэном и он отвечал за меня. Я, честно говоря, наглухо ушла в себя и даже забыла про Дэна, который, пока я лежала на животе, а мне под кожу загоняли сталь, всё время стоял рядом. Он без тени смущения пялился на мои голые сиськи и улыбался во весь рот. У меня даже промелькнула дурная мысль, что он всю историю с моим подвесом затеял только ради этого.
— Ну что, готова к «суициду»? — спросил меня зашедший в гримёрку приятель Дэна.
— К чему? — искренне не поняла я и удивлённо посмотрела на Дэна.
Вместо улыбки на его лице проявилась болезненная гримаса. Он развёл руками, как бы извиняясь, и, повернувшись к приятелю, постучал пальцем себе по лбу.
— К «суициду», — засмеялась пирсерша, — самый простой тип подвеса. Для первого раза — самое то.
— Почему? — Я продолжала тупить, сбитая с толку ненавистным мне словом.
— Ну, наименее больно. Кожа на спине потолще. Висеть удобнее, чем при горизонталке. Не так страшно.
— Почему «суицид»?
— А потому, что издали похоже на висельника. Не парься. Обычный профессиональный юмор. Не нравится название, забудь о нём. Погуляй минут двадцать — и на сцену. Будем тебя поднимать. Не очень болит?
— Вообще не болит. Так, ноет чуть-чуть. А юмор у вас идиотский.
Девчонка только плечами пожала, не стала связываться с психованной дурой. Может, её Дэн предупредил. Сидит теперь с виноватой миной. Суицид? Да что они знают о суициде? Убить себя — страшное предательство. Меня выворачивает наизнанку от этого презренного слова, пахнущего безысходностью, лекарствами, болезнями, слезами, застрявшим в горле криком, тотальной несправедливостью. Моя мама в течение года медленно и мучительно умирала у меня на глазах. Рак сжирал, сжигал её изнутри. Она терпела страшные боли, чтоб хотя бы ещё день прожить вместе с нами. Чтоб видеть меня, быть со мной. А как просто было бы наглотаться таблеток и покончить с болью. Я тоже живу со своей болью с тех пор, как потеряла Егора. Но я не предам его память, никогда не смалодушничаю. Суицид — это страшно, больно, отвратительно и, самое главное, бессмысленно. Ведь мы всё равно все умрём. А так, пока я живу, у меня всегда есть шанс успеть сделать что-то хорошее. Например, спасти чью-нибудь пропащую жизнь. Отдать жизнь за чужую жизнь — это уже не суицид. И ещё. Говорят, что самоубийство — это не выход. Выход, выход — ещё какой выход. Только выход для полного подонка. Человека, который никого не любит и не жалеет. Никого! Такому и жить незачем. Ненавижу постоянный шёпот в голове, с которым живу уже три года: давай, давай, что тебе терять, твоя любовь умерла навсегда, покончи разом со всеми проблемами, убей свою боль! Нет! Никогда! Я люблю ЕТ, папу, Малыша, своих друзей. Даже Светку, как это ни дико звучит, тоже немножечко люблю за то, что она заботится о папе, хотя ненавижу её гораздо сильнее. В общем, не париться не удалось. Пришла полетать, а меня одним словом как ледяной водой, как подножкой сбили с ног на землю. Ещё и сама на себя разозлилась. На свою повышенную впечатлительность. Из-за какого-то ничтожного слова испортила себе такой важный день. Во всём ты, Мурзилка, виновата, — накаркала!
Такая вот у меня получилась психологическая подготовка перед актом вандализма над собственным телом. Не помню, как вышла из гримёрки, вся в своих мыслях, как оказалась на свежевымытой, пахнущей хлоркой сцене. Кажется, я даже забыла, зачем я здесь. Краска на досках старая, почти совсем истерлась, но настоящего, правильного, красного коммунистического цвета. Чтобы крови было не видно. Стою, словно на эшафоте в Средние века, жду, когда меня вздёрнут перед ликующей толпой. Но ни толпы, ни священника, только Дэн рядом крутится, виновато глаза прячет. Карабины на крюках защелкнулись, верёвки натянулись, мгновенная боль в спине, словно удар ковбойской плети, вернула меня в сознание и подняла на цыпочки. Дэн заботливо, но твёрдо держал меня под локти, поднимал вверх одновременно с верёвками, прикрепленными к раме-доске, которую подтягивал к потолку альпинистский трос, пропущенный через блок. Конструкция больше всего напоминала дыбу из фильмов про жестокости инквизиции. Сердце заколотилось, дыхание участилось, опять вспомнилась чайка на удильном крючке. Может, остановить всё, к чёртовой матери? Но пальцы ног уже оторвались от земли. «Крак», — раздался отвратительный звук у меня в ушах, это кожа на спине отделилась от мышц.
— Баля-а-а-а-а-а-а-ать! Йеа-а-а-а-а-ать! — крик вырвался откуда-то, будто из-под замка. Причём совершенно не моим голосом. Я ведь никогда не матерюсь. Просто бурная реакция на нечеловеческую боль. Даже хвалёный порог не спасает. Слёзы боли и обиды буквально полились из моих удивлённых глаз. Теперь я висела только на своей коже, а Дэн стоял внизу и как-то странно на меня смотрел. Смотрел, как будто сейчас расплачется. Я попыталась заехать ему ногой по кислой морде, но не достала. Недосягаем, гад! Боже, как больно и как прикольно одновременно! Прикольно-прокольно-больно! Кто-то подтолкнул меня, и я закачалась взад-вперёд, как лампочка на проводе. Сейчас заискрю и взорвусь белым светом. Тянущая боль во всём теле усилилась. Казалось, меня вот-вот разорвёт и я упаду, обливаясь кровью. Скорей бы! Привет доброй Мурзиле! Как же больно! Может, хватит? Но нет — я лечу, лечу на верёвочных крыльях! Я умею летать! Слышите, суки? Я УМЕЮ ЛЕТАТЬ! Головокружение от боли или от высоты — уже не понимаю. Ничего не понимаю, но мне так хорошо! Притяжение исчезло, и тёмный клуб исчез, и Кити Китова с её неразрешимыми проблемами осталась там, в статичном бескрылом мире. Эндорфины — вперёд! Ничего нет! Есть только искры из глаз от боли, превращающиеся в звёзды вокруг, и хочется кричать от шока и счастья. Абсолютного счастья. Счастье — оно-то откуда? Все вопросы куда-то делись, упали в тёмную пропасть внизу. Вокруг одни ответы. Сияют в темноте. Летают рядом со мной. Красивые, яркие, зовущие. Не знаю, как к ним подобраться. Что-то держит меня, мешает улететь в зовущую ответами пустоту, и я ору: