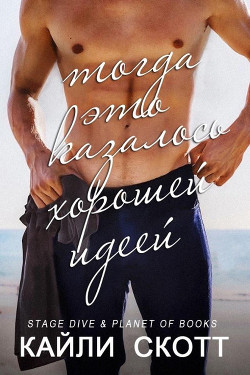бутылка (может, матери были просто рады, что не шприцы, как раньше?) Не было и тех, кто жрёт «колёса» в клубах, нюхает кокс вечерком после высокооплачиваемой работы, и совсем не было тех, кто от всего этого скатился к тому, что ставится под колено: в бицепс или пах.
Город явно делился на тех, кто упорно решил всё происходящее дерьмо вычеркнуть из своей жизни, и тех, кто в нём варился. На жителей дня: отцы семейств, мамашки с колясками, хорошисты, учителя, физкультурники, ЗОЖ-ники и ПП-шники, иногда менты и врачи – законопослушные и тихие, чьё существование сливалось в бесконечную какофонию городской суеты; и нас – жителей ночи, прожигающих самое дорогое, что у нас было, – свою молодость.
Голоса наши наполняли тёмный город тихим, шипящим, мешающим спать или, наоборот, убаюкивающим шумом, лишь иногда прерываемым рёвом мотоциклетного мотора, который всегда запаздывает за самим мотоциклом, пронёсшимся по освещённому шоссе за несколько сотен метров от спящего человека. Он был так громок, что неизбежно будил, и человек вздрагивал всем телом, вмиг пробудившись ото сна, и долго чертыхал водителя.
С заходом солнца жители ночи потихоньку выползали из берлог, бродили по улицам в ожидании живительного сияния луны и лишь с его приходом пускались во все тяжкие. Случайно забредшие в ночь жители дня, быстренько семенящие в свои норки, опасливо поглядывали по сторонам, ёжась при нашем приближении, услышав шуршание наших подошв за спиной. Они прибавляли шагу, изо всех сил стараясь не сорваться на бег, отгоняли от себя неприятные мысли о природе нашего бытия. Кто знает, что у нас на уме? Вдруг нам зачем-то может понадобиться загнать нож меж рёбер прохожему? Ведь свет луны – время свободных духом, выбирающих быть здесь и сейчас, увлечённых и никогда не думающих о последствиях, а следовательно, потенциально опасных. Мы же всегда замолкали и ускоряли свой шаг ради потехи.
Иной раз, выйдя из сумрака под тусклый свет фонаря, встретишься взглядом с таким же, как ты, жителем ночи, приветственно улыбнёшься ему, будто вы оба знаете одну тайну на двоих (ведь не одним только светом луны ночь свела вас в эту минуту…) Рукава спортивных курток едва соприкоснутся, и ты навсегда простишься с незнакомцем, оставив образ на растерзание памяти, которая сотрёт его этим же утром, как стирает она добрую половину событий каждой ночи, прошедшей в угаре. Беспамятство составляло особую сладость, ведь в нём можно было спрятаться от дневного света, требующего ясности всей твоей жизни.
Вроде бы каждый сам решает, как ему жить. Но так ли волен человек? Пацаны попадают в движуху, и она затягивает как омут. Очень скоро начинает казаться, что вокруг все употребляют, как минимум курят траву. Кажется, что курить – это вообще нормально, а вот не курить – это уже как-то странно, и те, кто не курят, – явно люди жизни не знающие и являющие собой такое меньшинство, что не стоит о них даже и думать.
Это естественно. В восемнадцать-двадцать лет невозможно охватить пониманием такое большое общество, как многомиллионный город, конца и края которого не видно даже из окон самого высокого небоскрёба. Представление о нём ты составляешь по маленькому болотцу, в котором обитаешь сам. Мы запрыгиваем в него по собственной воле, потому что видимые границы дают ощущение безопасности. Рецепт жизни, по которому вы живёте в небольшой экосистеме, кажется применим ко всем за её пределами. Наверное, именно поэтому так тяжело выбраться из бедности, из общества маргиналов, алкоголиков или скучных интеллигентов.
Кажется, что другого попросту нет. Может, и правда все употребляют? Я пытался оценить «масштаб трагедии», смотря на своего пятидесятилетнего соседа, который не бухал, а значит, точно употреблял (если и не сейчас, то в молодости – сто пудов). Смотрел на миловидную Анечку (имя на бейдже кассирши в «Перекрёстке»). Она уже знала меня в лицо и, увидев в очереди, скромно улыбалась, потупив взгляд на ползущую ленту, заставленную продуктами. В ответ на её улыбку я говорил: «Привет, как день?» Она смущалась ещё больше и что-то лепетала в ответ, я складывал продукты в пакет, размышляя о том, курит ли она гашиш, ну, или не отказалась бы покурить со мной, если бы однажды я ей предложил? Смотрел на дворника Сабека, которого моя бабушка гоняла по двору, заставляя убрать «ещё вот тут» и «вот там», периодически доплачивая ему, чтобы он потщательней помыл плитку в подъезде, выбил нам ковры или не затягивал с покраской заборчика по весне. Он точно курил, потому что «у них там», по-любому курят чуть ли не с рождения (судя по британским арабам).
«Да что весёлого-то без курева и алкашки? – частенько говорил кто-то из нас. – Вот, пацаны, помните, как в детстве было. Выбежал во двор и не надо ничего больше!» Да… Так оно и было. Когда-то у нас была дача: небольшой деревянный домик, красивый участок с лилиями и пионами, был даже прудик, у бабушки был парник, там остро пахло созревающими помидорами и тяжело дышалось.
Я очень хорошо помню, как мы с местными пацанами целыми днями пропадали на улице. Ходили на речку купаться, ловить рыбу, прыгать с тарзанки. Или строили плот на озере, на нём можно было играть «в шторм», представляя себя мореплавателями. Мы гоняли мяч, и просёлочная дорога виделась нам огромным футбольным полем. Пыль стояла двухметровым столбом до самой ночи, и я возвращался весь покрытый ею, со скрежетом песка на зубах, и бабушка ворчала и велела мне подойти к зеркалу, чтобы «полюбоваться на себя». Я смотрел и не видел ничего такого, просто кожа стала чуть темнее, от неё пахло солнцем.
Меня ставили в алюминиевый таз с горячей водой, практически кипятком, обжигающим ноги, и поливали сверху ковшом. Я трясся от холода, когда горячая вода стекала, оставляя мурашки по всему телу. Дуновение июльского ветерка казалось январской стужей. Когда я стал старше, меня отправляли в душевую кабинку на участке, на крышу которой была приделана бочка; домой я возвращался поздно, вода успевала остыть, и я долго готовился, стиснув зубы, прежде чем повернуть краник на смесителе.
Тогда же, маленьким мальчиком, стоя в тазу с остывающей водой, я только и ждал, что окончания купания, когда взрослые вытрут меня старым голубым полотенцем (и почему на даче старые вещи обретают новую жизнь, вместо того, чтобы быть выкинутыми на помойку?) – оно было всё в дырках, по краям торчали нитки. Такое же страшное, как и старый посеревший металлический таз, в котором я стоял, пластиковый ковш с трещиной, продавленный диван, на котором дед читал газету.
Пытка закончится, мне велят надеть пижаму, разрешат выйти