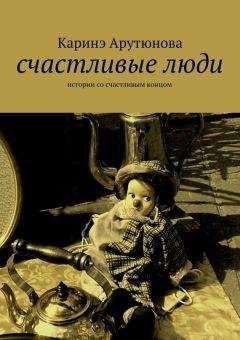Мы полагали, что все это навсегда, навечно, – короткая школьная форма, старухи из первого подъезда, пыльная коробка со свернутыми лентами диафильмов, клеенка в школьной столовой, – стаканы с киселем, поднос с пирожками, запахи перловки и яблочного повидла.
Я помню утро второго класса, сентябрьское, еще теплое, или день того же дня, уже после уроков, – мне полагалось часа полтора на «проветривание» головы, до приготовления домашнего задания на следующий день, – помню внезапно опустевший двор, шорох осенних листьев, щемящее чувство, – тоски? одиночества? предопределенности? – предстоящей зимы, школьных будней, утренних завтраков, дневных обедов, проверок, контрольных, сложений, вычитаний, разборов, собраний, пришиваний и отпарываний воротничков, манжет, – впервые я ощутила укол, не зная еще, не подозревая о дозе, – она будет увеличиваться с каждым годом, с каждой новой осенью будет угасать уверенность в том, что все это навсегда, – лето, качели, царапина на локте, ссадина на ноге, заросли лопуха и крыжовника, стенгазета, мокрая тряпка у доски, паркет, откидывающаяся крышка парты, чернила на промокашке, расщепленное надвое перо и мычание за спиной, – похожее на сон, страшный и одновременно сладкий, – мамамылараму.
Однажды я проснусь в испарине, – мне приснится глубокая старость, – лет двадцать пять, а то и больше, – но нет, ошибка, – ошибка, – и сердце заколотится у горла, просясь наружу, – еще только шестнадцать, – я буду лежать с открытыми глазами, умножая в столбик и в строчку, – складывая, вычитая, деля…
Все эти добрые рождественские картинки с видом на заснеженную улицу – это же оттуда, родом из детства.
На санках можно было доехать – да хоть куда угодно! Допустим, в прачечную, в гастроном, в мебельный – в кварталах трех, а то и четырех от дома. А если ехать по Перова, а там завернуть за трамвайную линию… Как вкусно скрипели полозья, каким гладким был снег. Так и подмывало зачерпнуть горсть-другую…
Казалось, так было всегда. Скрип полозьев, застывшие в ожидании улицы. Звон трамвая вдалеке.
Там, за каждым светящимся окном – канун. Предвкушение. Смешная уютная суета между балконом, холодильником и сервантом. Хотя слово «сервант» лично мне казалось старомодным. Серванты – это у старушек. Стоило перешагнуть порог – и мир серванта, нафталиновых шариков и стариковского бормотания сменялся другим.
Рев тромбона, рык Армстронга, скороговорка Беко – магнитофонные ленты цеплялись одна за другую, наматывались на пальцы и щиколотки, хлипкие книжные полки кренились, угрожая обвалом. После мерного тиканья ходиков рваный ритм рок-н-ролла.
Смешно, но всего, что было после, я уже не вспомню. Нет, что-то мелькает, кружится… Как щиплет язык от шампанского! Всего этого я не помню. Зато дорогу…
Не верьте тому, кто скажет, что нам было плохо. Там, на окраине города, за двумя палисадниками и бульваром, был кинотеатр и птичий рынок, а еще – мебельный магазин!
Много ли человеку нужно для счастья? Допустим, сервант, а в нем – слоники – ровно семь, – именно то, что может пригодиться скучным зимним вечером, – слоники, фарфоровая пастушка, круглая коробка от монпансье. Пуговицы. Тяжелые, круглые, похожие на конфеты-тянучки, прямоугольные, будто ириски – плоские и тусклые, цвета слоновой кости – для белья. Их можно разложить на столе, – вот эти – важные, – король и королева, – а эти, бесцветные, – всего лишь подданные, мелкая челядь, кухонные адмиралы и их подчиненные. Стареющая фрейлина в пыльном кринолине. Дерзкий безусый паж. В ход идет старый подсвечник, шахматные ладьи, подушечка для иголок.
С какой радостью мы покидаем обжитые места!
Оказывается, там, за мебельным и птичьим рынком, трамвайная линия не обрывается.
Кто знает, как будет там. Кто знает. И, кроме того, сервант – он такой неподъемный, куда без него? Послушайте, но ведь как-то его вносили? Может, под каким-то особым углом? Кто вспомнит, как вносили сервант, детскую кроватку, – покупали посуду, – тарелки глубокие, для первых блюд, и мелкие, а еще блюдца, чайный сервиз – как без сервиза и серебряной ложечки «на зубок»?
Милая, куда подевался комод? Большой тяжелый комод, который стоял в том углу, помнишь? С такими выдвигающимися ящичками, поскрипывающими в тишине? Там был габардиновый костюм, дамская сумочка с квитанциями, совершенно новое платье.
Милая, мне казалось, это навсегда. Перевязанные бечевкой связки писем с надписью «хранить вечно». Где они?
Неужели у кого-то поднялась рука? Мне даже вообразить это страшно. Они лежали в дальнем углу комода, вряд ли кому-то могли помешать.
В детстве звезды были огромными, а вишни черными и сладкими. Ноги сводило от холодной воды, но выходить не хотелось, – стуча зубами, в очередной раз плюхались и вновь выскакивали, как посиневшие поплавки. Вода была в ушах, в носу, в глазах, но этого никто не замечал. Никто не задавался вопросом, зачем «баба сеяла горох», отчего именно горох, и отчего именно этот момент вызывал столько шума и мокрой радости.
В детстве все было важным. Мир слов не стоял особняком, он был живым и разнообразным, подвижным и вкусным. Он был страшным и потешным, неотделимым от сказочных чудовищ и скачущей на одной ножке Таньки с третьего этажа, которая говорила – мьясо, верьевка, пятьерка, – от сумашедшего Люсика с вороной на голове, который пробегал мимо, совсем как Кролик из «Алисы в стране чудес». Только Кролик был джентльменом и бормотал по-английски, поглядывая на часы, свисающие на цепочке, а наш Люсик был огромной детиной в заячьем треухе летом и зимой. Он бежал на полусогнутых, пугливо озираясь, обеими руками придерживая втянутую в пухлые плечи голову. Бормоча нечто неневнятное, – на каком языке, уже не вспомню, – возможно, это был какой-то специальный язык, полуптичий, полубожественный.
Был язык моей бабушки, которая оправдывалась, – а я по-русску не очень, – но разражалась такими историями… Вставляя словечки на каком-то смешанном, необыкновенно смешном, точном и выразительном языке. Ну, например, «шифлодик». Это вам не какой-нибудь шкафчик.
Была тихая Любочка из первого подъезда, – сидя на нашей кухне, она бормотала, всхлипывала, причитала, – она была старая, всегда старая, больная, обиженная, – ее мир был маленьким, затхлым, печальным, но был он и пронзительно смешным, такой смех сквозь слезы.
А еще был мир моей «летней» бабушки, руки которой пахли сушеной дыней и лавашом, глаза которой были глубокими, грустными, будто припорошенными пеплом. Ранним утром она заплетала свои косы, потом – мои… Ахчик! – кричала она вслед с растопыренной пятерней, но меня уже не было, только краешек красного в белый горошек платья.
Улица была важней, – там торговали фантами, продавали сладчайшую газировку, «ситро», носились на трехколесных велосипедах, делились «жуйкой», раскрывали тайну деторождения, играли в пап и мам, во врача и больного, хоронили погибшего воробья, купали пупсов, шили одежки, – слова складывались из запахов двора, из звуков, из распахнутых окон, за которыми происходило ВСЕ.
Бушевал Танькин отец, растягивал гармонь Петро, добрый молодец с роскошным пшеничным чубом, кричала благим матом Криворучка, тонконогая и пузатая, с жидкой фигой на голове. За окнами ссорились, любили, вынашивали детей, воспитывали их громко, на потеху притихшему двору.
За окнами бормотали еврейские старухи, – ложечку за папу, ложечку за маму. За окнами месили тесто, варили холодец, клубничное варенье, в огромных чанах вываривали белье, – тут, главное, не переварить, – вы сколько синьки кладете?
В сказках все было настоящее, как в жизни. Как можно было не верить в злых ведьм, эльфов и гномов, когда на первом этаже жила Ивановна, и была она страшнее всех ведьм вместе взятых? С маленькой головкой, обтянутой платком, поджимающая будто подшитые на скорую руку губы.
Поздоровайся, – подталкивала меня в затылок мама, но я упрямо склоняла голову, опасаясь встретиться с крошечными недобрыми глазками.
В палисаднике за домом мы искали клад, я и еще двое мальчишек, – вдохновителем и организатором была, конечно же я, – мальчишки сопели, разрыхляя влажную землю детскими лопатками, – мне, в общем, все было давно ясно, но я продолжала подбадривать землекопов довольно фальшивым голосом.
Вам это ничего не напоминает?