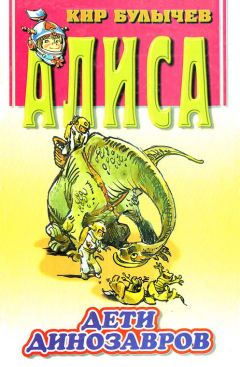– Ой, Оксаночка, что это? На тебе лица нет!..
– Он меня ударил. В живот… Ах, если бы я проявил решимость и не отпустил нашу маленькую хрупкую девочку одну на ночную улицу. Ах, если бы Парашютист поленился застегивать ей сапоги. Руки у нее дрожали. Она еле выговорила:
– Сашка, знала бы ты, какая это гадость. Прямо ножом. Я ему говорю: вы не думайте, здесь просто темно, и от этого они так блестят. А на самом деле, они не золотые. Пластмасса. А он как заругал меня, как ударит в живот – и бежать.
– Это был не нож, – сказал я.
– Да тебе-то откуда знать? – обиделась Оксаночка.
– Говорю тебе, это был не нож. Он его в тебе оставил.
– Где, да где же? Ой, покажите. – Сашка забыла про свою земляничную пасту.
– Вот, – сказал я, – видишь, торчит. Это скальпель. Ничего страшного. Обыкновенный медицинский скальпель. Нож вошел бы глубже. – И я вытащил его за блестящую ручку, чтобы все могли увидеть.
Оксаночка запрыгала по коридору в свою комнату, приговаривая:
– Ой, как жаль, что ты зарекся писать для газет. А то был бы шикарный материал. Представляешь, студент-медик нападает на беременную женщину, которая…
Один только Парашютист ничему не радовался:
– Все испорчено. И пальто тоже испорчено. Какого черта ты пошла в моем кожаном пальто?
– Оно же теплее, – сказала Оксаночка, подавая замерзающей Сашке халат.
И все мы отправились спать. Даже я. То есть, я-то опять не спал. И опять ко мне подлезла чистенькая, пахнущая земляничным мылом Сашка. Медленно стащив с моей головы наушники, она сказала:
– И как все же прав был Чехов, когда говорил, что все студенты лентяи и пьяницы.
XVIII
– Я вспомнила! Я кое-что вспомнила! – Царь-Жопа ворвалась ко мне на прием. – Это было красное платье с рюшечками и грибком мухомором, вот тут, на месте сердца… А потом еще дружба и любовь. Нет, не любовь… То есть, да, любовь, но детская такая, платоническая страсть. Мы все время менялись лифчиками после тихого часа. А родители думали, что мы их путаем, и все время умилялись. (Деталь из моего первого письма. И рюшечки, и мухомор тоже.) И вот он пишет…
– Кто пишет?
– А… никто не пишет. Это я от волнения заговариваюсь. А спали мы в музыкальном зале под большим портретом Ленина. Там ставили такие деревянные раскладушечки. Но только не такие, как теперь, а такие, как теперь бывают раскладные табуретки. (Господи! Да вспомнит она что-нибудь свое или так и будет пользоваться опытом чужого детства?) А звали меня… вот вы не угадаете, как…
– Почему же, позвольте угадать. Вас называют Царь-Жопой. К этому прозвищу больше всего подошло бы имя… (Тут я, конечно, сделал вид, что задумался, я и вправду задумался: в самом деле, это был выбор между благородством и не ударить в грязь лицом.)
– Ну-ну, – торжествовала Царь-Жопа. – Так что же вы? Вот и не отгадаете.
Остатки благородства все куда-то делись, и я сказал:
– Марина. Это имя больше всего гармонирует… я хочу сказать, гармонировало с вашей…
– Как это вам удалось?
– Видите ли, – сказал я, – это моя профессия… Значит, Марина. А по батюшке как?
Она смутилась.
– Не припоминаю. Возможно, в другой раз.
– Да. В другой раз. До свидания. И, когда она вышла, я пометил у себя, что в третьем письме капитан второго ранга обратится к ней по имени и отчеству. С уважением.
– Ты уволен! – Петр Сергеевич даже не поленился зайти в мой кабинет ради такой новости.
Он уселся на место пациента, и от этого весь последующий разговор принял двусмысленный характер. Дело в том, что специально для Царь-Жопы я составляю два стула. Это придает ей немного прежней уверенности.
– Сколько у меня времени? – спросил я, закончив запись в журнале.
– У нас, знаешь, не государственная лавочка. Завтра тебя ждет биржа труда. А я посмотрю, где ты еще найдешь такую работу.
– Но сегодня-то я смогу поспать?
– Сегодня сможешь, но это в последний раз.
– Спасибо. Тогда, Петр Сергеевич, я возьму на себя смелость напомнить вам, что мой прием окончен, и наступило время сна.
– И ты не спросишь, почему?
– Петр Сергеевич, я вас понимаю, и поэтому мне безразлично, что вы мне скажете. Вам теперь ничего не стоит заявить, например, что отец Василий просмотрел мои отчеты и нашел там несколько цитат из Чехова или Квитки-Основьяненко. А сны были в постный день, когда на ночь нельзя читать «Гусева» или «Дом с мезонином», мое любимое. Отцу Василию и в голову такое не придет. Он кропит себе наши органайзеры, и этого с него довольно. – Я говорил, а глаза мои слипались. Все-таки пережитое вчерашним вечером, когда Оксаночка встретилась с этим бандитом… Кто он был? Неужели и вправду какой-нибудь разоренный взятками студент-медик? Я так хотел спать. И меня так тошнило. А вдруг этот несчастный дурак вздумал бы изрезать ей лицо? Милое, глупенькое Оксаночкино лицо, с таким носиком. Хорошо еще, что он просто ткнул ее скальпелем в самое безопасное место. Только Парашютист вне себя. Ему-то опять все переделывать, и вечером я едва уговорил его лечь спать. «Встанешь пораньше, – сказал я, – тогда и можешь все исправить до маминого прихода».
– И ты не спрашиваешь, почему?
– Петр Сергеевич, я уже начинал задремывать, а вы опять со своим «почему».
– Ну, это уж слишком. Он вышел так же быстро, как и накануне влетел ко мне со всей этой ерундой.
В самом деле, какая разница, за что? Рассчитают где-нибудь, что моя квалификация требует слишком большой оплаты, что за те же деньги можно было бы держать трех специалистов похуже – и нет чтоб так прямо и сказать, а ведь придумают причину совсем другую. Скажут, будто о. Василий перекрестил твои отчеты, и один из них вспыхнул. Или что Царь-Жопа не довольна тобой. (Уж кто-кто, а она…) А что, если черепаха у мамы? Да нет, наверное, Парашютист отнес ее на птичий рынок, еще летом, по пути к фабрике игрушек.
XIX
– Так ты уже проснулся? Вот и хорошо. Пиши отчет. Мы решили, что ты не уволен.
– Петр Сергеевич, я не могу. Сегодня у меня умерла мама.
– Ты что, рехнулся? – Он знает, что моих родителей давно нет.
– Наша мама, Петр Сергеевич. Мы называем тещу мамой. Мы все ее так называем.
Из сна, прямо с лестницы, под которую прятался мерзкий мальчик и заслуживал пинков за то, что бросал в меня какие-то шарики, меня вызвал звонок. Это была Оксаночка. Оксаночка плакала…
Будильник не зазвонил, или он делал это ровно минуту, как все электрические будильники. Время, достаточное, чтобы поднять своим гадким писком кого угодно, только не Парашютиста, и все они проспали. Поздно, слишком поздно наш изобретатель взялся за Оксаночкин разрезанный живот. У мамы был свой ключ. Когда она вошла, Оксаночка кружилась по комнате, вспоминая уроки в детской школе танца, а ее живот лежал на коленях у Парашютиста, свешивая липкие, как щупальца, присоски. Бугристый, как и положено на последних месяцах, он напоминал осьминожью башку. С вывалившимся пупком, с характерной пигментной полосой, всеми родинками и всеми волосками, какие мы знали на нежном, плоском Оксаночкином животе. Конечно, он был хуже, его разрыхляли стрии, направленные вниз, и нижний краешек пупка темнел от накопившейся в нем грязи. Конечно, излишне было выделывать на нем все эти тонкости, так как мама никогда не любовалась Оксаночкиным животом так, как мы, и вряд ли помнила все его волоски и родинки. Старания Парашютиста носили чисто спортивный характер. Нападавший повредил его недавнее изобретение, обрезал несколько проводков, отчего шевеления внутри живота сделались постоянными и судорожными до такой степени, что он всю ночь пропрыгал по комнате, потому что Оксаночка не решилась оставить его на себе. Теперь живот подпрыгивал у него на коленях, а он ошибался в дыму канифоли, соединял не те проводки и крыл матом всех бандитов, которые вспарывают животы беременным. Бедная мама! Чтобы не слушать Парашютиста, Оксаночка была в моих наушниках. А Сашка как раз пустила горячую воду в душе. Никто не заметил, как мама оказалась на полу, никто не слышал, как она хрипела. Скорая помощь ей не понадобилась…
– Прости меня, – сказал Петр Сергеевич, – я выбрал плохое время для эксперимента. Это наши психологи. Знаешь, составлен график. И примерно раз в месяц каждому конфиденциально будет говориться, что он уволен.
– Для чего это?
– Для того, чтобы поселить в человеке чувство беззащитности, внушить ему представление о том, что он постоянно зависит от чьего-то своенравия. Страх – вот чем надо управлять. А то слишком уж все у нас хорошо, когда другим плохо.
Я принял извинения Петра Сергеевича. Позвонил домой и услышал от Сашки с Парашютистом, что маму уже увезли в морг. «Заберу ее оттуда, – сказал Парашютист, – а ты с девчонками оформляй документы».
XX
И настал день, когда я впервые увидел маму. В окружении подруг. Тетя Паша тоже пришла. И привела Костика. Это был мальчик, очень похожий на мое фото, но (слава Богу!) не похожий на меня в пять лет. Костика разбирало любопытство – по-видимому, в его жизни это был первый покойник. Да и мамины подруги сошлись как будто на чаек, беседовали с ней. Только нам четверым слышалось ее упрямое молчание. Ни с кем из нас она не пожелала заговорить, а вот с подругами прощалась долго и обстоятельно. Многое из ее имущества уже было роздано, сообразуясь с тем, как она того захотела после смерти, но, верно, еще оставались недовольные.