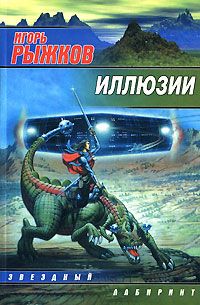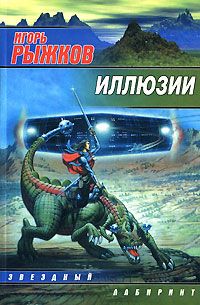Все эти смелые мечты сделали Фурье радикально новым теоретиком добровольных сегрегаций с приматом творческих удовольствий и развитием чувств за пределами устаревшей морали и прежней бескрылой логики. Он бесконечно вычерчивал чертежи, расписания, подробно растолковывал, чем надушить океаны, чтобы они в будущем благоухали. Он ждал тех, кто готов профинансировать первый такой опыт. Если правоту Фурье не признавали, он просто начинал сомневаться в уме тех, от кого ждал признания.
22.3 / Порнокапитализм де Сада
Фурье освободил культ удовольствия от его связи с властью и классовой доминацией. Он сделал в своей утопии удовольствие политически революционным, а не радикально-реакционным, как в крамольной утопии своего явного предшественника де Сада. Возможно, именно де Сад научил Фурье этому редкому для тех лет подходу: утопия реализуется для чьего-то максимального удовольствия, а не для чего-то еще. В «120 днях Содома» и других сочинениях де Сад описывает вымышленные монастыри, серали и аббатства либертенов, в которых эти утопические господа отказываются от прежней морали и условностей прежнего языка для сохранения и даже максимального ужесточения неравенства, ради новых, очищенных от предрассудков форм обладания человеком.
Прозе де Сада свойственна радикальная светскость, в смысле антиклерикализм, или даже клерикализм, вывернутый наизнанку, — исповедь, месса и причастие пародируются в сексуальных ритуалах, перверсивных шоу. Религиозному ритуалу противопоставляется рациональный ритуал, посвященный только удовлетворению доминаторов, без маскирующей метафизики. Де Сад нагромождает, явно преувеличивая, развратные деяния пап, кардиналов и священников, делая из жрецов обманного и потому мерзкого ритуала жрецов честного и рационального ритуала чистой доминации либертенов.
Очевидно, что де Сада раздражала невозможность полностью обладать рабом или слугой, и он пишет утопию абсолютных обладателей, власть которых ничем и никем не амортизирована и в этом смысле свободна и порочна. Это сообщество не зверей, ограниченных генетически заданными потребностями, но свободных доминаторов, нередко несущих другим смерть в процессе перманентной реализации своей власти.
Легче всего, конечно, объяснить весь этот «садизм» слишком близким расположением и даже наложением центров боли и удовольствия в мозгу автора. С социальной же точки зрения, весь пафос де Сада — это невозможность реализации новых горизонтов удовольствия в прежней системе, но и невозможность представить себе принципиально иную систему с принципиально иной экономикой желаний. Де Сад утрирует и доводит в воображаемых сегрегациях до стерильной крайности «эту систему», ту, которая последовательно побеждала в течение всей его жизни. Он — свидетель французской революции, разделившей его жизнь пополам. Его молодость прошла в мире, где новый класс имел все, кроме окончательной, закрепленной власти, ходил в прежних, не удобных ему юридических и моральных одеждах, а зрелость и старость де Сада происходили при глобальном перевороте отношений и окончательном утверждении буржуазии у власти. Во время революции он обращался именно к этому классу с одним из самых утопических своих текстов («Последнее усилие, которое сделает вас настоящими республиканцами»), к новому историческому игроку, именно как к либертенам, доминаторам, которым не понадобятся лишние ритуалы прошлого и его лживая мораль.
Будучи радикальным атеистом, де Сад надеялся, что власть нового класса обойдется без прежних религиозных и патерналистских иллюзий, чувствовал остро их ложь и неуместность и предлагал убрать их как мешающий наслаждению амортизатор. Смысл власти и доминирования — удовольствие, а вовсе не долг перед отсутствующим богом, вымышленной нацией, бессильными избирателями, слепой толпой. Такую «власть как наслаждение» может дать только капитал. Либертены — это новые буржуа, возникающие внутри прежней сословной системы, именно они смогут обойтись без оскорбительных для рационального и аналитического ума иллюзий прошлого. Де Сад переоценил радикальность буржуазии. Хоть и «нет такого преступления, на которое не пошли бы капиталисты ради 300 процентов прибыли», им не меньше требуются для самооправдания массовые душеспасительные иллюзии, чем требовались они дворянам прежних эпох. Правда, иллюзии эти другого рода, не вытесняющие (как прежде) страсть и экстаз на воображаемые небеса, к святым и ангелам, но пускающие эмоции в новое русло, выгодное продавцам товаров, оживляющее рынок и умножающее капитал. В этом смысле утопия де Сада есть утопия чистого и честного экстаза потребления. Потребления одними людьми других. Это утопия эксплуатации, которая не нуждается в том, чтобы называть себя как-то иначе. Радикальность сообщения де Сада в том, что использование низших отнюдь не печальная необходимость, но главное наслаждение доминаторов в режиме неравенства, которое не нуждается в оправданиях и маскировке.
Либертены роскошно питаются и не выносят повторений ни на столе, ни в постели. Они следят и за тем, что едят их жертвы, чтобы оставаться достаточно упитанными и соблазнительными для своих господ. Либертеном становятся после 35 лет, приобретая жесткий, злобный вид и «пылающий взгляд». Жертвы, в отличие от хозяев, в этих описаниях почти не имеют внешности, они функциональны. Либертеном невозможно стать без денег, но есть ли у него титул или нет, неважно. Деньги — главное доказательство их порочности и прав на реализацию этой порочности. Чаще всего либертены принадлежат к финансистам, откупщикам или высоким должностным и духовным лицам, превратившим свое положение в выгодный бизнес.
Как строится их идеальная сегрегация, закрытая от остального, «испорченного моралью» общества? Во главе несколько (это никогда не монархия!) крупных либертенов, вокруг них — рангом ниже — помощники и ассистенты и, наконец, подданные (постоянные и временные), происходящие, как правило, из низших слоев общества, а иногда и просто привозные рабы. Между собой эти разные классы не имеют никаких отношений вне ритуалов, обслуживающих желания господ. Всё, чем они заняты, — производство удовольствия своих хозяев и никаких оправданий этот сложный многосоставный конвейер не ищет. Утопист де Сад занят максимальной рационализацией поз, способов, участников, доходящих до расчленений и каннибализма, ведь это никогда не случается спонтанно, по-зверски, но всегда делается по продуманному плану. По сути, это бизнес-план, мечта о максимальной эффективности подданных: использованы должны быть все телесные возможности участников. В мире буржуазной конкуренции между доминаторами нет никакой солидарности. Либертены любезны, но иногда они убивают и друг друга, например, в случае, если один из них идет замаливать свои грехи в церковь.
Господин говорит гордо и богохульно, а его живой объект для исполнения желаний молчит.
Либертенам можно говорить, их подданным — нет, ведь они — доставляющие удовольствие (при правильном использовании) вещи, ресурсы и источники чувственной прибыли. О чем обычно говорит либертен? Это антимифологические, в самом широком смысле слова, речи, разоблачительное иконоборчество в духе просветителей.
Де Сад написал утопию того, что уже есть, но пока замаскировано из ложного уважения к моральным фетишам прошлого. Малое закрытое общество либертенов — это идеальный (и потому невозможный) капитализм, без всяких «но» и «при условии», в котором жертвы никогда не бунтуют, они, эти пассивные объектные люди-инструменты, даже не боятся. «Мы не боимся тебя, потому что не можем тебя постичь», — говорит жертва либертену. Перед нами идеальные, возможные лишь в утопическом тексте эксплуатируемые. Для этой утопии важна изначальная регламентация: кого и какая ждет судьба в этом бескомпромиссном производстве наслаждения элит, кто и какую форму удовольствия доставляет — обозначено заранее цветной лентой на одежде подданных. По цвету розданных лент можно заранее видеть, кто из них выживет, а кто — нет.
Рост такой власти и «чувственной эффективности» невозможен без механизации производства удовольствия. Де Сад выдумывает машины для порки, изнасилования, вызывания безумного смеха, жесткие фиксаторы и подвижные фаллои-митаторы. Да и статус используемых людей близок к манекенам и надувным куклам. Если бы надувные куклы могли беспрекословно их обслуживать, то, подсчитав всё в столбик, буржуа однажды ночью надели бы противогазы и повернули бы кран, пускающий газ в города. Мы не понадобились бы им в роли потребителей, потому что у них отныне было бы достаточно исполнителей их желаний, и они превратились бы в чистых богов, никак не связанных «обратной связью» (через потребление товара) со своими исполнительными «созданиями».