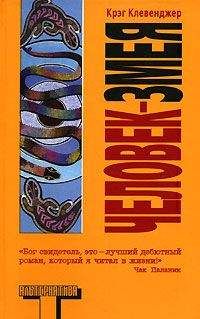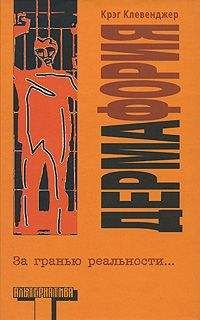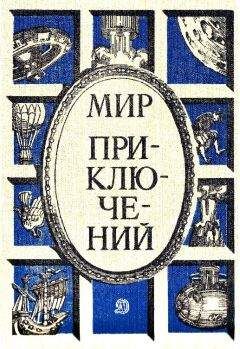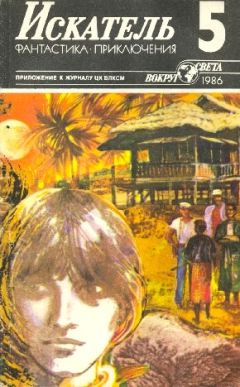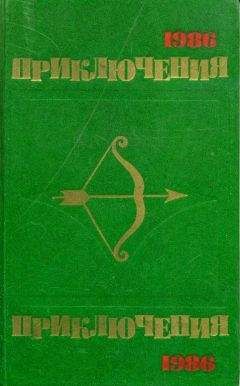Когда накачанный зеленец, на вид лет двадцати пяти, не больше, остановил меня по дороге в столовую: «Встать лицом к стене, руки за голову, ноги на ширине плеч», я ещё пытался демонстрировать характер. Хотелось на завтрак, организм требовал кофе, а этот козёл ощупывает живот, бёдра, подмышки; если зажмуриться, вполне за женщину-надзирательницу сойдёт.
— Эй, особо не увлекайтесь, — пробормотал я.
Закончив обыск, зеленец стоял как вкопанный и молчал. Я ждал разрешения идти, про себя радуясь, как здорово его уел.
— Что ты на руке написал? — спросил надзиратель. Вот дебил! Издевательски продемонстрировав чистую ладонь, я тут же получил.
Стандартная дубинка изготовлена из оцинкованного алюминия и весит шестьсот граммов. Прочная как алмаз, лёгкая как перышко, она идеально подходит для быстрых мощных ударов. От соприкосновения с кирпичной стеной эмалевое покрытие, конечно, растрескается, зато по рёбрам, ладоням, лодыжкам и коленям можно лупить от души. Оправившись от жуткой боли в руке, я перенёс вес тела на левую ногу, однако от «поцелуя» алюминиевого кнута колени тут же подогнулись. Что случилось дальше, помню обрывками: закрываю лицо, горло, живот, рёбра, но разве мне поспеть за ураганной скоростью безжалостной дубинки?
Я пытался быть самим собой: отжимания, приседания, карточные фокусы, чтение. На ответный удар решился дней через пять. Пописал в стаканчик, затаился на балконе второго этажа, выходящем прямо на проход между камерами, и, выбрав момент, столкнул на зеленца. Одурманенного газом, раздетого догола, закованного в наручники, меня швырнули в «нору».
«Нора», она же камера-одиночка, представляет собой бетонный куб размерами два на два на два, в заднюю стену которого вмонтированы складные нары. Унитаз из нержавеющей стали, один, салфетки, пятьдесят штук, половик из резины повышенной прочности, один, одеяло шерстяное, одно. Опустив голову в унитаз, я промыл горевшие от газа глаза и лёг на нары лицом вниз, потому что в «норе» свет горит круглые сутки.
Угрозы, крики, газ, побои — вовсе не они изменили мой характер, вовсе не они заставляли сдерживаться, когда надзиратели пытались третировать, а сокамерники — оскорблять и проверять на вшивость. Меня изменил свет. Десять дней света, тридцать дней света. Свет просачивается в глаза, не давая спать, сжигает дотла тени, отбеливает тусклые цвета бетонной коробки, где нет ни книг, ни карт, ни газет, которые помогли бы скоротать время.
Кое в чём я и впрямь тормоз. В пятнадцать-шестнадцать лет подростки сдают на права, начинают работать, ставят перед собой далеко идущие цели. А меня лишь многомесячные пытки светом научили понимать, когда стоит демонстрировать характер и бороться за свои права, а когда лучше молчать и не высовываться.
* * *
За первые девять месяцев заключения я не получил от родителей ни одной весточки, впрочем, они от меня тоже. В апреле 1976-го мне исполнилось семнадцать, и Шелли прислала небольшую посылку: открытка, четыре шоколадки, новая колода карт и подарочный сертификат, в котором говорилось, что сестра оформила мне подписку на научно-популярный журнал. Я пометил галочкой номера со статьями о генной мутации и чёрных дырах.
Я читал, лёжа на своей койке, когда появившийся в дверях надзиратель сообщил, что ко мне посетитель, на сборы пять минут. На вопрос «Кто пришёл?» охранник не ответил, вышел из камеры и закрыл дверь. Я быстро вычистил зубы, пригладил волосы и сказал, что готов.
Флуоресцентные потолочные лампы озаряли зал для свиданий стерильным зеленовато-белым светом. Клетчатый линолеум, пятнадцать деревянных столов со складными металлическими стульями. Если спросят, что больше всего мне запомнилось за два года в молодёжном лагере, я назову зал для свиданий.
У стены три торговых автомата. Чипсы, шоколад и орешки покупают только посетители: заключённым не положено иметь при себе деньги. В уборную можно было сходить только с разрешения одного из охранников, стоящих по периметру зала, так что попытки переодеться или переправить контрабанду пресекались на корню.
За столом ждал папа. Он отрастил недлинную бородку, какую-то пегую: чёрные, каштановые и седые волоски напоминали грязный снег. Холодные, как у сельдевой акулы, глаза я запомнил навсегда, а судебное заседание почти забыл, заставил себя забыть. Сигарета догорела почти до самых пальцев. Папа курит сигареты без фильтра, а рассыпающийся комочек табака выплёвывает в самую последнюю секунду. Рядом с пепельницей две банки лимонада.
Я присел на железный стул. Вблизи его глаза оказались покрасневшими, а мертвый акулий взгляд — не таким жёстким.
— Пей лимонад. — Он придвинул мне банку.
Дома мы никогда не покупали лимонад или содовую, так что газировку я пил лишь у мамы на работе и в тюрьме. Заключённым разрешалось пить только в коридоре, сидя, и вставать, когда надзиратель заберёт пустую банку. В зале для свиданий над торговым автоматом висел плакат:
ВЫНОС НАПИТКОВ С ТЕРРИТОРИИ ЗАЛА ЗАПРЕЩЁН. ПУСТЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ СЛЕДУЕТ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ СЛУЖАЩИМ КОЛОНИИ.
До сих пор ненавижу содовую и любые виды газировки.
Целых девять месяцев я обдумывал, что скажу отцу при встрече, но сейчас в голове было совсем другое, а суд отошёл на второй план. Показывать, как я рад его приходу, не стану, пусть это будет моя маленькая месть. На самом деле я умирал от радости и страшно переживал, что папа так сильно постарел.
Я открыл банку, и шипение газировки влилось в монотонный гул, наполнявший зал для свиданий. Матери всхлипывали, отцы спешили в последний раз на этой неделе обнять своих сыновей. Папа стряхнул пепел, затянулся и раздавил микроскопический окурок в прибитой к столу пепельнице.
— Курить ещё не начал?
Я покачал головой. Папа достал из кармана куртки свежую пачку и снова закурил.
— Целый блок тебе купил, надзиратель потом передаст. В тюрьме сигареты даже лучше, чем деньги! Ещё пасту привёз, кстати, с прошедшим днём рождения!
— Деньги здесь запрещены. — Голос сел до чуть слышного шёпота, и говорить громче почему-то не получалось.
— Тебя не жмут? — тихо спросил папа. Надо же, у других отцов на такие вопросы пороха не хватает.
— Нет, — покачал головой я, — в основном сижу в камере, много читаю. Шелли присылает журналы…
— Да, она тебе ещё передала, так что спроси у надзирателя. Какие журналы тебе нравятся: политические или исторические?
— Всякие.
На самом деле ни те, ни другие, но Шелли не обязательно об этом знать. Взглянув на часы, папа снова затянулся.
— Я бросил пить, — объявил он, посмотрев сперва на меня, потом в пепельницу. — Уже девяносто дней держусь и срываться не собираюсь. Вот смотри, что мне дали! — Папа гордо показал металлический браслет общества трезвенников. — Только на кофе с содовой и сижу. — Затянувшись, он раздавил бычок и уставился на пепельницу. — Мама вчера умерла. Сказала: «Джон», закрыла глаза, и всё.
Я ковырял ногтем надпись «Короли Запада», кто-то вырезал её на столе тонким лезвием.
— Ты меня слышал?
— Угу.
— Не «угу», а да или нет? — От злости папа даже голос повысил.
— Да, я тебя слышал.
— И что дальше?
Если скажу хоть слово, начну реветь. Попытаюсь его утешить — начну реветь. Я только плечами пожал.
— Смотри на меня, парень! — Папин голос креп, но кричать в зале для свиданий он не решался. — Мама умерла вчера, в 16:57.
Память у меня хорошая, однако на этот раз подкачала. Когда же я в последний раз её видел?
— Скажи хоть что-нибудь, ты, ублюдок малолетний! — Именно таким тоном он отчитывал меня в детстве, прежде чем выпороть.
Слёзы уже кипели в глазах, но «ублюдок» вовремя их остудил. Я подумал о Джереми, как в последний раз видел его в тупичке, о том, что проявления слабости привлекают ненужное внимание, о том, что мы с папой не одни и за нами наблюдают посторонние.
Глаза у отца акульи, белки красные, а взгляд пустой, отчаянный.
— Иди. К. Чёрту, — чётко проговаривая каждую букву, сказал я.
Целую секунду мы буравили друг друга взглядами, и папа первым опустил глаза к пепельнице. Кивнув надзирателю, он объявил, что свидание окончено.
Ещё несколько минут я сидел в зале для свиданий, разглядывал свои пальцы, пытаясь отрешиться от того, что услышал. Потом надзиратель погнал меня в камеру. Вместо подушки рулон туалетной бумаги; закрываю глаза и заставляю себя ненавидеть родителей. Опустившись на корточки, скребу дальние уголки памяти, стараясь вымести всю ненависть, а потом жую её вместе с туалетной бумагой. Пусть отравляют душу, пусть сжигают дотла все проявления любви, боли и слабости.
Через два дня у меня началась третья черепобойка.
* * *
Шестнадцатое мая 1977 года, понедельник. Ровно год назад я в последний раз видел папу, год и один день назад умерла мама. Мне восемнадцать, решением суда информация о моих юношеских правонарушениях закрыта для доступа. Ещё раз я получил личные вещи, ещё раз переоделся под присмотром надзирателя. Ещё раз одна за другой открывались автоматические двери, и у каждой объявляли моё имя. Ещё раз у выхода в зал ожидания я услышал шутливое напутствие: «До очень скорого, сынок».