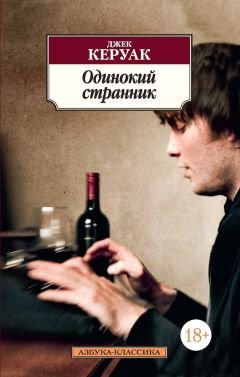Он перевел на меня взгляд с лукавой улыбкой – «Я тебе покажу. Встретимся в баре на Маркет-стрит, 210 – у Джейми – в 10 сегодня вечером – пойдем, переночуем на борту, доедем на поезде А через мост —»
«Лады, договорились».
«Сцукисын, мне теперь гораздо лучше».
«Что случилось». Я думал, ему легче оттого, что ему только что работа перепала, про которую он думал, что не достанется.
«Болел. Всю ночь вчера бухал все, что вижу —»
«Что?»
«Мешал».
«Пиво? Виски?»
«Пиво, виски, вино – чертову зеленую д-р-р-рянь —» Мы стояли снаружи на огромных ступеньках профкома в вышине над синими водами Залива Сан-Франциско, и вот они были, белые суда на приливе, и вся моя любовь восстала воспевать мою новообретенную моряцкую жизнь. – Море! Настоящие суда! Мое прелестное судно пришло, не во сне, а наяву со спутанным такелажем и натуральными помощниками капитана, и направление на судно запрятано в моем бумажнике, и лишь накануне ночью я пинал тараканов у себя в крохотной темной комнатке в трущобах Третьей улицы. – Мне хотелось обнять своего друга. – «Как тебя звать? Это здорово!»
«Джордж – Джордж-ии – Я полак, меня так и звать, Чокнутый Полок. Меня все так знают. Я киррряю и кирряю, и проябую все время, и с работы меня вышибают, на судно опаздываю – они мне тут еще один шанец дали – я так болел, что видеть не мог – а теперь мне чутка получшело —»
«Пивка прими, выправишься —»
«Нет! Я тогда сызнова начну, я ж че-окнутый буду, два, три пива, бум! И нет меня, слетаю, ты меня больше не увидишь». Жалкая улыбка, шмыг плечьми. «Так оно все. Чокнутый Полок».
«Мне дали ЖП – тебе КК».
«Они мене дают еще один шанец, а потом тока „Джорджи, бум, пошел вон, сдохни, ты уволен, ты не моряк, смешной сцукисын, проябуешь слишком много“ – я-то знаю», ощеривается он. – «Они мне по глазам видят, блестят, сразу говорят „Джорджи опять бухой“ – нет – еще одно пиво не могу, я не проябу ничё до отхода —»
«Мы куда?»
«Мобайл под погрузку – Дальний Восток – может Йипонния, Ёкохама – Сасэбо – Кобэ – Не знаю – Может Коррея – Может Сайгон – Индо Китай – никто не знает – Я тебе покажу, что работать надо, если ты новенький – Я Джордж Варевски Чокнутый Полок – Мне вапще поябать, —»
«Ладно, Дружище. Встречаемся в 10 сегодня вечером. —»
«Маркет, 210 – и не набухайся и не приди!»
«Да и ты! если пропустишь, я один пойду».
«Не перживай – У меня денег нету ни сцукисыного цента. – Денег нет проесть —»
«А пару дубов на еду тебе не надо?» Я вынул бумажник.
Он лукаво посмотрел на меня. «У тебя есть?»
«Два дуба точно».
«Ладно».
Он ушел, руки в карманы штанов смиренно, разгромленно, но стремительной решительной походкой, ноги шебуршились по прямой к его цели, и когда я посмотрел, шел он действительно до крайности быстро – голову вниз, смущенный миром и всеми портами света, куда он врежется своим проворным шагом. —
Я повернулся вдохнуть великого свежего воздуху гаваней, воодушевленный моим везеньем – я представлял себя с суровым ликом, устремленным к морю сквозь Предельные Врата Златой Америки, чтоб никогда не вернуться, видел саваны серого моря, каплющие с моего ростра. —
Я ни разу не размышлял о темной фарсово фуриозной реальной жизни этого бродячего рабочего мира, ухты.
В ревущей собственной кровеналитости я объявился в 10 часов того вечера без своих пожитков, лишь с моим мореманским корешем Элом Саблеттом, который праздновал со мной мой «последний вечер на берегу». – Варевски сидел глубоко в основательном баре, безпитый, с двумя пьяными пьющими моряками. – Он не притронулся ни к капле с тех пор, как я его видел, и с такой вот унылой дисциплиной обозревал чашки, предлагаемые и всяко, а также все объяснения. – Вихорь мира захватил этот бар, когда я ввалился в него с укоса, Ван-Гоговы половицы текли к бурым уборным из щелястых досок, плевательницам, скоблестолам в подсобке – словно салуны вечности в Унылом Лоуэлле и с ним же. – Так оно было, в барах Десятой авеню Нью-Йорка я – да и Джорджи – первые три пива в октябрьские сумерки, ликованье вопля детей на железных улицах, ветер, суда в ленте реки – как мерцающее зарево растекается в животе, даруя силу и превращая мир из места скрежетзубовно серьезной погруженности в частности борьбы и жалобы, в гигантскую нутряную радость, способную пухнуть, как растянутая тень, тенетами дали обогромленная и с тою же сопутствующей потерей плотности и силы, чтоб утром после 30-го пива и 10 виск, а также раннеутренних дуракавалятельных вермутов на крышах, в польтах, погребах, местах вычтенной энергии, не прибавленной, чем больше пьешь, тем больше ложной силы, а ложная сила вычитаема. – Хлюп, поутру мужик мертв, бурое заунывное счастье баров и салунов в содрогающейся пустоте целого света, и нервные окончания, медленно живущие, смертельно отрезаются в центре кишок, медленный паралич пальцев, рук – фантом и ужас человека, некогда розовенького младенчика, ныне дрожащий призрак в трескучей сюрреалистской ночи городов, забытых лиц, швырнутых денег, выметанного харча, пойла, пойла, пойла, тысяч пережеванных разговоров в тусклостях. – О радость белогребнего моряка либо бывшего моряка, алкаша, завывающего в проулке Третьей улицы в Сан-Франциско под кошачьей луной, и даже пока торжественное судно распихивает по сторонам воды Золотых Ворот, впередсмотри на баке одинокого белорубахого годного к службе моряка, курсом на Японию на форпике со своей трезвящей кружкой кофе, рябоносый бродяга бутылок готов расколотиться об узкие стены, призвать свою смерть в безнервенных степенях, отыскать свою хилую пленку любви в крученом табурете одиноких унылых салунов – все иллюзия.
«Сцукисын ты, наж-р-р-ался», расхохотался Джорджи, видя, как я ввалился на бровях, дикие деньги так и каплют с моих штанов – колочу по стойке бара – «Пива! пива!» – И все равно бухать не желал – «Я не проябу, пока на борт не сяду – на сей раз я насовсем потеряю, профсоюз насовсем на меня насцыт, прощевай, Джордж, бум». – И его лицо налито по́том, липкие глаза избегают хладных пен на вершинах пивных стаканов, пальцы по-прежнему вцеплены в тихокурый окурок, весь ископченный никотином и узловатый от трудов мира.
«Эй, дядя, где твоя мати?» заорал я, видя его в таком одиночестве, маломалого и позаброшенного во всем этом буром усложненном миллионномотыльковом нажиме и надсадном напряге бухла, пахоты, пота. —
«Она в Восточной Польше с моей сестрой. – Не желала ехать в Западную Германию, потому что набожная и помалкивает, и гордая – она в церкву ходит – я ничего ей не посылаю – Толку что?»
Его амиго хотел выцыганить у меня доллар. – «Это кто?»
«Ладно, дай ему доллар, у тебя теперь судно есть, – моряк он —» Мне не хотелось, но доллар я ему дал, и когда Джорджи, и я, и друг Эл уходили, он меня назвал х-сосом за то, что с такой неохотой. – Поэтому я вернулся ему вмазать или накрайняк с минутку побарахтаться в море его борзости и подвести его к извиненьям, но все как-то смазалось, и я ощутил грохот кулаков и треск дерева и черепов, и полицейские фургоны в буром чокнутом воздухе. – Оно куда-то пошкандыбало, Джорджи ушел, стояла ночь – Эл ушел – Я шкандыбал по одиноким ночным улицам Фриско, смутно осознавая, что должен попасть на судно в шесть или упустить его.
Проснулся в 5 утра в своей старой железнодорожной комнатке с драным ковром и занавеской, задернутой на несколько футов закопченной крыши от нескончаемой трагедии китайского семейства, чей мальчик-чадо, как я уже говорил, пребывал в непрекращающейся муке слез, его папуля всякий вечер задавал ему трепку, чтоб молчал, мать вопила. – Теперь на заре серое безмолвие, в коем взорвался факт, «Я упустил судно» – У меня все еще оставался час, чтоб успеть. – Подхватил свой уже сложенный морской мешок и выскочил наружу – спотыкливая плечсумка, в серой дымке судьбоносного Фриско бегом ловить мой залихватский Поезд А по-мосту-через-бухту на Армейскую Базу. – Такси от Поезда А, и я уже у шлепающей каймы судна, труба у него с «Т», что значит «Транстопливо», видно над серым Военно-Морским свалкосараем. – Я поспешил дальше вглубь. – То был пароход «Либерти», черный с оранжевыми стрелами и сине-оранжевой трубой – «УИЛЬЯМ Х. КАРОЗЕРЗ» – ни души не видать – Я взбежал по вихлястым сходням со своей мешконошей, швырнул ее на палубу, огляделся. – Паровые лязги с камбуза прямо по курсу. – Моментально я понял, быть беде, когда на меня затявкал германский крысеныш с красными глазками, как сильно я, дескать, опоздал, у меня при себе мои железнодорожные часы доказать, что задержался я лишь на 12 минут, но с него градом лился красный пот ненависти – позднее мы прозвали его Гитлер. – Вмешался кок с четкими усиками:
«Он всего на 12 минут опоздал – Пошли раскочегарим завтрак, а поговорим потом». —
«Тшортовы парни тумают, могут являтса с опостанием, а я молтши. – Путеш пуфетшик», произнес он, вдруг улыбнувшись, дабы втереть эту свою симпатичную мыслишку.