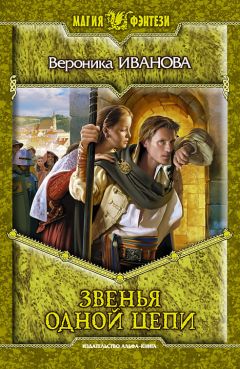— Он золото, — прохрипел дед. — Он пятьсот стоит. Если бы пил меньше…
— Да нет, меньше никак не выходит, — засмеялась Лина и наконец развела руки: разрешила себя обнять. — Компания не та. Мы вас с Кларой уже часа два ждем, все около дома на лавочке сидели. А вот встретился молодой человек и привел сюда. Оказывается, у вас один ключ ко всем дверям подходит. Обчистят вас когда-нибудь до нитки, товарищ дорогой.
— А что у него воровать-то? — прищурился дед. — Бумаги? Я ему говорю, дай на пол-литра, я все их на тачке зараз свезу в утиль.
— Лина, милая Лина, — он обнимал ее и прижимал к себе, и глаза у него были мокрые от слез.
Она немного постояла, потом тихонько отстранилась и ласково сказала:
— Ну, ну, ладно, ладно, потом. Вы вот перед Кларой-то извинитесь, она все время звонила директору.
Вот тут он и увидел Клару. Быть может, на ней горел отраженный свет Лины, может, весь мир сделался для него в эти минуты прекрасным, но Клара сейчас показалась ему очень красивой. Высокая, тонкая, стройная, с матовым спокойным лицом и черно-синими волосами. И платье было на ней черное и глухое.
«Похожая на черное распятье», — вспомнил он чью-то строчку.
— Ну, так все в порядке? — спросила она тихо, подходя.
На мгновение он задумался, потому что начисто забыл про все и все это надо было вспоминать сначала, а потом бухнул:
— В порядке, я расписку уж дал.
— Какую? — испугалась Лина.
— Как? — схватила его за руку Клара.
— А это чтоб не убежал, — сказал дед понимающе, — а то заберет золото да и махнет в Америку. Такие события тоже бывают. Вот когда я у Шахворостова-купца работал, казначей у него был, такая пьяница горькая, беспортошная, а знаешь, как воображал про себя? Так вот раз тоже забрал из магазина выручку за неделю да и…
— Так ведь золота он даже и не видел, — беспокойно сказала Клара и оглянулась на деда.
— А там разберут, разберут, видел он или не видел, — отрезал дед и махнул рукой. — Там все до ниточки разберут — кто он, откуда, когда родился, когда женился. Вот директора как вызвали туда, так и пропал. Только оттуда допустили позвонить: запри, мол, кабинет, и пусть ученый сразу ко мне бегит, если его не посадят, конечно. В восемь часов велел зайти.
— Что? — вскочил Зыбин. — Так что ж ты…
И как раз зазвонил телефон. Клара подошла и сняла трубку.
— Да, — сказала она. — Да! Вот передаю. — И протянула трубку Зыбину.
— Ты что, живой? — спросил директор жизнерадостно. — А я уж звонил в милицию, что, мол, мучаете нашу ученую часть. Что они там от тебя хотят? Золота?
— Подписку отобрали, — ответил Зыбин.
— Что?! — сразу взвинтился директор. — Подписку?… И ты небось сразу и дал? Эх, шляпа! Зачем же было давать? Ты б хоть со мной посоветовался, а то небось оробел и сразу же подписал. Эх, шляпа, шляпа. Ну ладно, беда невелика. Дед у тебя? Все пьете? И Клару на радостях поите небось? Ты смотри! Я сегодня посмотрел — у нее губы посинели. А кто еще там у тебя?
— Петр и дед, — ответил Зыбин.
— И все? Ты смотри, брат, все прошляпишь, — сказал директор, — и ту и эту! Ну ладно. Поговорим. Спокойной ночи. И завтра на службе чтоб как стеклышко! Чтоб весь звенел, понял?
Когда он отошел от телефона, Лина была уже в плаще.
— Вы сначала меня проводите, — приказала она, — а потом Кларочку доведете до дому. — Она подхватила Клару под руку.
— Пойдемте, моя хорошая, вы ведь тоже устали и изнервничались. Ух, какие у вас в Алма-Ате ночи!
Дед идти отказался.
— Вы уж одни, вы все молодые, веселые, у вас свои разговоры, а мне завтра с петухами вставать. Мне даром никто деньги платить не желает. Так что прощенья просим.
И ушел, твердо надев картуз и даже не покачиваясь.
— Вы заприте дверь, — приказала Лина с порога, когда все вышли. — Как же так, оставлять дом ночью открытым, что так плохо за вами ваши женщины смотрят?
Луна висела над собором большая, мутно-прозрачная, как кусок янтаря над свечкой. Было светло и тихо, и даже тополя не шумели. Лина вдруг остановилась посредине улицы, откинула голову и несколько раз глубоко вобрала воздух.
— Чувствуете море? — сказала она, хватая Зыбина за руку. — Оно вон, вон за той аллеей! И тополя такие же, только совсем тихие. Помните, как вы их называли? Цыганками! Там, Кларочка, у них каждый листочек дрожит. А здесь они у вас стоят, не шелохнутся.
— Но это они до разу, — обиделся за свои тополя Петька, — как ветер налетит, так сразу зашумят, как пена в тазу.
Лина посмотрела на него и рассмеялась.
— Нет, Петр Николаевич, вы просто прелесть, — сказала она и подхватила его под руку. — Как пена в тазу. Жена стирает на ночь в тазике блузку и вешает над примусом, чтоб к утру просохла, а муж ворочается во сне и слышит. Вы женаты, Петр Николаевич?
Петька отвернулся.
— Нет, — сказал он угрюмо.
— Ну и не надо, — весело посоветовала ему Лина. — Еще успеете запрячься. Вот Георгий Николаевич никогда не женится. Сколько бы ни собирался, а не сумеет. Я его знаю. Мы старые друзья. Кларочка, а далеко отсюда до большой воды?
— Да верст, наверно, тридцать пять будет, — ответил Зыбин. — Поезд идет почти полтора часа. — И чуть не добавил: «Отходит в семь тринадцать от городской платформы».
И сейчас же он снова увидел спокойную глинистую реку, сыпучую гальку, сухой белый и желтый тростник, скалистые берега из синих, желтых, черных, белых, разноцветных камней. Жара, сушь, и так сохнет во рту, что даже вода освежает только на минуту.
— Как-нибудь обязательно съездим, — сказала Лина. — Ладно, Кларочка?
Она уже подхватила Клару под руку. А та шла и смотрела через верхушки тополей на горы, на голубые от луны горные леса. Вопрос Лины она так и не расслышала.
А та уже опять повернулась к Петьке.
— Совершенно морской город, — сказала она уверенно. — Здесь море живет в каждом доме, в каждом тополе. Я сразу вспомнила — черноморские бульвары такие. Впрочем, их надо видеть. Георгий Николаевич, а помните тот парк, где вы в тире выиграли матрешку? Вы знаете, Кларочка, она до сих пор стоит у меня на буфете. Такая огромная! Подарочная! С полметра! Вы никогда не были на море, Кларочка?
Клара покачала головой. Она все так же неподвижно смотрела на лунное небо и горные мохнатые перевалы.
— Ну вот и отлично, соберемся все и поедем. Вы еще отпуска-то не брали, хранитель? Ну и не берите! Возьмем вместе в апреле или в мае. — Они остановились перед гостиницей. — Ну вот, товарищи, я и дома. Спасибо. Теперь проводите Кларочку — и спать, спать. Георгий Николаевич, я вам завтра позвоню после работы, хорошо?
— Хорошо, — ответил он. — Только, если можно, попозднее, я завтра еду в одно место и, наверно, задержусь.
— Это куда же?
— Ну, по работе надо.
Лина засмеялась опять.
— Вот что значит дикий человек. Не знает ни работы, ни отдыха. Ну ничего. Мы теперь за вас с Кларочкой примемся! Затаскаем вас по горам. Эх, жалко, что мне завтра рано вставать! В такие ночи нужно шляться по улицам до рассвета. Ну, привет, товарищи!
И ушла, помахивая рукой.
Обратно они шли втроем. Он держал Клару под руку и физически чувствовал, как ей не терпится добраться до кровати и рухнуть лицом в подушку. Он молчал. «Дрянь я все-таки страшная», — подумал он, сказал это слово вслух и сейчас же сгорел от стыда: затряс головой, заулыбался, загримасничал, забормотал что-то. Петька удивленно покосился на него, а Клара спросила:
— Так во сколько вас завтра разбудить по телефону?
— Ну вот еще, — ответил он. — С чего это вы меня станете будить? Я вас разбужу!
Она вздохнула:
— Отлично!
— Часов в семь для вас не очень рано? — спросил он.
— Нет, не очень. Можно и раньше.
Она вдруг остановилась.
— Ну, вот уж мой дом, — вздохнула она со страшным облегчением. — Спокойной ночи.
И она скрылась в глубине двора, даже не простившись.
Дома он опять зажег все лампы — настольную, люстру, боковой свет, прошел к столу и бухнулся в кресло. Все здесь еще носило ее отпечатки: вот стул — на нем она сидела, вот стакан — она его не допила, вот половина конфеты, вот книжка — она ее просматривала и бросила на диван. И тут он вдруг понял, что совершенно зря позвал Клару. С Петькой было бы все куда проще. А теперь им придется провести целый день наедине. Ведь в самом лучшем случае — если они попадут на семичасовой — он вернется в шесть! Значит, позвонит Лине часов в восемь-девять. Опять неладно! Впрочем, это уж и не важно. Теперь это не самое главное. Самое главное — что она его все-таки нашла. Ведь приехала-то она одна! Стоп! Ты так уверен, что одна? Вскочил, сел на диван и стал быстро листать книжку. Нет, конечно, все-таки, конечно, одна. Иначе она сказала бы. Кларе, например, обязательно бы сказала. А впрочем, с нее все станется. Может быть, и не одна. Ну что ж, тогда они как встретятся, так и разойдутся. За эти годы он многому научился, он «изучил науку расставаний». Вероятно, это уже старость подходит. Все стало легко. Вот Корнилов не такой. Он молод, горяч и как говорит Державин, к правде черт. Зато и своего не упустит. Вот Даша, кажется, уже его. Как она сегодня ринулась за него в бой! Потапов даже засопел от неожиданности. Что ж? Правильно! У Корнилова все ясно, четко, недвусмысленно. Как он думает, так и режет. А вот он хитрит. А Потапов рычит и дрожит, а Клара молчит и прячет глаза. И никто ничего толком не может объяснить, что случилось с людьми. А без этого и жить нельзя. В мире происходит что-то совершенно необычайное. Крутят по миру какие-то черные чудовищные протуберанцы и метут, метут все, что ни попадется на пути. Почему, зачем, кто поймет? Хотя читай речи вождей, в них все ясно. «Это и есть истина, — сказал сегодня директор. — Если мы будем в это верить, то победим». И верят же, действительно верят. Ох уже эта вера! Та самая, что горами двигает и города берет. Где бы и мне ее достать? Верую, верую. Господи, помоги же моему неверию! А впрочем, зачем тебе вера? Помнишь Сенеку, трагедию «Актей»? «Да будет мне позволено молчать — какая есть свобода меньше этой?» Так вот воспользуйся хоть этой самой меньшей свободой. Так ведь не воспользуешься, опять начнешь все объяснять и подгонять, вот как сегодня ты пел Даше: «Надо знать, когда и кто». Сознайся, гадко ведь, а? А вот у Корнилова этого нет. За это его и любят. Но только с Линой у него определенно ничего не получится. Она стена для таких, как он. Ее в мире не интересует ничего, кроме ее самой. Вот море, походы, костры из смоляных ветвей, сноп искр над костром, прогулки до зари по берегу — это ее. И она не притворяется — она действительно такая. И ты без памяти влюбляешься в это цельное, бездумное, свободное от страха существование. Оно же по-настоящему прекрасно! Потом наступает, конечно, отрезвление. Она расстается с тобой на вокзале, ты уходишь очарованный, влюбленный, надававший тысячи клятв себе и ей, сидишь один в комнате, вспоминаешь и думаешь, улыбаешься своим мыслям. Так проходит неделя-другая, и вдруг наступает отрезвление. Ты понимаешь, что какая-то невероятная сухость, черствость и даже старчество проглядывает в ее невозмутимой ясности. И самое главное — она ведь проговаривается! Нет, нет, она не особенно умна. Ее гармонию держит инстинкт, привычка, бессознательное чувство равновесия, а никак не разум. Она могла с ясным лицом рассказать о себе что-нибудь такое, что даже в те блаженные дни вдруг заставляло его как бы мгновенно осечься, очнуться, упасть с пятого этажа — посмотреть на нее со стороны. Господи, что же это такое? Но все это и продолжалось мгновение. Она сразу же ловила его настроение и всегда умела заставить забыть его все. Чуткой в этом отношении она была невероятно. Как бы он ни старался скрыть свое настроение, она видела его насквозь. Даже во время разговора по телефону. Но один раз он все-таки взорвался, и тогда они поссорились. И вот теперь…