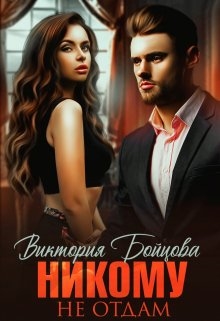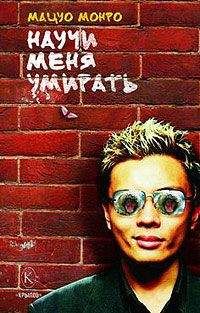начинается реальность. Вопрос: где?
Почему я все еще продолжаю есть невкусную кашу?
Где мама, которая заставляет меня это делать?
Ответов я, конечно, не знаю.
И я жду. Жду того, что приходит только с опытом.
Пока что я узнал всего одну большую истину: в какой-то момент от жизни необходимо охренеть. Можешь охренеть один раз и навсегда. Можешь делать это хоть каждый день. Но охренеть — это твоя обязанность. Общечеловеческая.
А пока у этой истории будет хороший конец. Конечно, со временем он испортится. Я, вроде как, истратил хорошую концовку на середину: рассыпал отведенные на нее буквы в этот эпилог.
Потому что прошлое и будущее — два зеркала друг напротив друга, а настоящее — ось, по которой они вращаются. Я знаю это. Откуда? Уже не помню. Скорее всего, кто-то сказал мне. Возможно, это неправда. Но если кто-то соврал мне, то я точно так же могу соврать кому-то ещё. Так?
В любом случае, не так важно, где именно я это напишу, потому что у историй не бывает подходящего места для эпилога. Если бы я хотел сказать в нем что-то важное, то место, может, и появилось бы. Но я сразу хочу предупредить, что ничего важного не скажу.
Это же все фальшивое, как и эти слова. Мои слова.
Я никогда не видел в фальши ничего плохого. Вот вам моя исповедь: я не фанат натуралистичности. И мне плевать, верят мне или нет. А все вокруг прям до трясучки ненавидят, когда их слова подвергают сомнению! Не знаю, что у их за патологическая тяга к правде. Наверное, это потому, что в детстве их постоянно обманывали.
Что за стремление мерить всех людей по какому-то универсальному лекалу! Есть определённо плохие условия и определённо хорошие, есть единая для всех мораль, единые возможности и желания, а все, что в это лекало не вписывается — ложь и отговорки плохих по сути людей. Все фальшь, а фальшь — это плохо.
Понять бы еще, что это такое. Как отличить реальность от подделки? Вы, конечно, скажете, что реальность — это все, что с тобой происходит, и в ней достаточно ущепнуть себя, чтобы удостовериться. Но я бы не был так уверен.
Реальность относительна. Точно так же, как и фальшивка. Фальшивкой можно жить долго — можно верить в иллюзии, жить идеей, знать, кто ты есть. Вариантов достаточно.
А потом знаете, что происходит? Реальность. Бум!
За нами тянулся шлейф пережитой в поезде ночи. Мы шли от вокзала рано утром, обессиленные и отупевшие.
Меня грела мысль о том, что скоро я вернусь домой. Как раз после поезда я понял, что у меня остался один дом: квартира Лаврентия. Мое последнее пристанище, не считая дома Ярослава, но в дом Ярослава я бы не вернулся и под страхом смертной казни. Хотя там я уже обжился. Когда привыкаешь к месту, оно уже не кажется таким ужасным, даже если оно по-настоящему, до первобытного страха ужасно — с домом Ярослава я настолько смирился, что даже не больно-то хотел оттуда съезжать. Это не значит, что мне там вдруг понравилось. Просто я терпел. Терпел так покорно, что перестал возмущаться, и за это я себя никогда не прощу. Возмущаться убожеством ярославовой халупы я был обязан до последнего. Таков был мой гражданский долг.
Одним словом, квартира Лавра мне роднее, чем убежище Ярослава. Я думал о том, что скоро вернусь туда, и меня это грело. Грело ли что-то самого Ярослава, я не знаю. В кои-то веки он шел молча: шлёпал по асфальту подошвами своих поношенных кед и не поднимал голову. Я не скучал по его болтовне.
В то утро я узнал, насколько безлюдным умеет быть город. Солнце еще не встало, но небо уже светлело, на деревьях набухли почки, кое-где на газонах уже торчали пучки травы и вокруг не нашлось ни одного живого человека. Фонари еще не потухли, горели себе под нежно синим небом, как во сне.
Картину портили только тяжелая голова, еле плетущиеся ноги и сухость в горле. Эта троица обгадила мне весь сон. Я бы рад насладиться красотами утра, если б глаза не угрожали выпасть из глазниц и покатиться по дорожке вперед меня. К сожалению, в то утро я узнал не только красоты безлюдного города: еще я узнал, что там, где красиво, как в сказке, магазины не работают. Мы даже воды купить не могли, чтобы облегчить себе участь умирающих перед вокзалом в пятом часу утра. И ни одного автобуса, который мог бы подбросить нас до мира живых.
Мы стояли перед выбором: ждать в лимбе, пока нас кто-нибудь не заберет, или идти ногами, пока мы оба, один за другим, не потеряем сознание.
Когда я спросил у Ярослава, что мы с ним собираемся делать, он ответил мне нечленораздельной смесью гласных звуков и кашля. Я понял, что мои слова звучат для него точно так же, поэтому мы просто пошли.
Во вменяемом состоянии мы добрались бы за сорок минут. То, что от нас осталось, шло в три раза дольше. Оно вообще едва могло ходить.
Когда мы начали свой путь, я сразу прикинул: два часа. Нам надо продержаться два часа. Потом — хоть падай. Падай и умирай на месте. Плачь, рви волосы, ломай себе пальцы. Но только через два часа.
И я шел. Мои ноги шевелились сами по себе, ступней я вовсе не чувствовал, только какое-то механическое напряжение оттуда обращало на себя внимание. Спустя где-то половину дороги я распознал в этом механическом напряжении боль. Оказалось, ходить мне больно. Но я продолжал идти с упорством, достойным олимпийского чемпиона.
Рассвет застал нас в дороге. Вместе с ним на улицу потихоньку начали выходить люди: сначала один, случайных. Потом еще — разведчик. А дальше стали появляться по несколько сразу, полноценными группами, и стало ясно, что день начался.
Солнце светило ярко, становилось все теплее. Даже жарко. По асфальту бежали ручейки стаявшего снега, прямо как в прежние времена по дому Ярослава. Я вспомнил о том, что времена эти стали прежними, и на душе моей полегчало. Только на финишной прямой, когда до дома оставалось всего ничего, я наконец-то понял, как устал. Во многом поэтому, но еще и потому, что я за ночь потерял всякий страх, мы не стали обходить двор с той самой пивной лавкой. Ярослав шел рядом со мной и даже не знал, что происходит