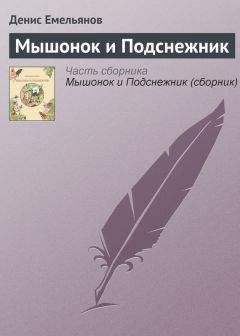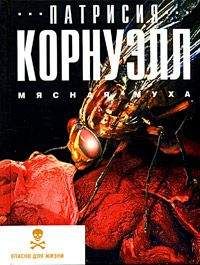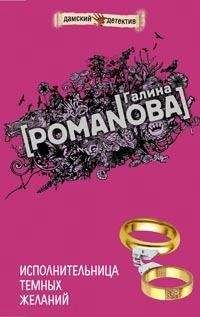В общем и целом, таблетки росли везде. На деревьях, в подвалах, в захламленных смертью квартирах, в головах у растительных людей. Таблетки были общедоступны и не вызывали привыкания, таблетки приветствовались и поощрялись, таблетки кричали с рекламы психоделических фильмов и со страниц новомодных книг. Таблеток было много, и они были легион.
Съев диазепам, Афанасий понял, что скоро умрет. С этими мыслями он побрел дальше по пустой белой улице, надеясь встретить кого-нибудь умного и спасительного. На углу, там где одна улица с новым названием пересекает другую улицу с новым названием, перед его улыбкой явился Анатолий Еремеевич Бом — дворник и философ. Анатолий Еремеевич (в прошлом доцент консерватории), курил махру и плевал культурно в перчатки. Дел у него было — невпроворот! Ведь старому экс-доценту нужно было мести снег сначала с одной стороны улицы на другую, а потом наоборот. Занятие это было ничуть не хуже других, к тому же увлекало чрезмерно и позволяло Анатолию Еремеевичу и на людей посмотреть и себя показать.
— Метет, — протяжно вздохнул Бом, протягивая Афанасию самокрутку.
— Да, батюшка, метет, — угодливо согласился Афанасий и прикурил.
Так стояли они друг против друга, выпуская сизый дым и похаркивая. А дым шел все выше, и выше и выше, оставляя земле запах немытого тела и вечного греха.
— А что, милай, сдохнем, чай, скоро? — миролюбиво спросил дворник, давясь раковым кашлем.
— Сдохнем, — подтвердил Афанасий.
— Эх! А вот душевно было бы….
— Было. — Афоня всегда соглашался с Анатолием Еремеевичем. Хотя бы потому, что дворник был ученый и много повидал.
— Скажи-ка, Еремеич, — решился наконец он, — а что там? — и пальцем в небо.
— Там…..Там…облака, птицы и это… звездные тела, вот, — Еремеич затянулся тлеющей самокруткой и выплюнул на желотвато-недевственный снег кусочек легкого.
— А бог? — требовательно продолжал Афоня. — Бог-то где?
— Оно и понятно. что там, — уныло показал в небо старый философ. — Вот только хрен его разберет где точно. Это….шибко ученым быть нужно.
На том и попрощались. Еремеевич занялся излюбленным делом, то бишь принялся мести снег, поднимая при этом клубы белесой пыли, а Афанасий побрел дальше, размышляя о природе бога и своей скорой смерти.
Он улыбался всем подряд без исключения. Улыбнулся собаке — был покусан, улыбнулся девушке, той, что в модной дубленке — был обруган, улыбнулся жлобу — был бит. Таблетки давно закончились, а бред все не отпускал. Как ни поворачивался Афоня, солнце все равно оказывалось за спиной. По правде говоря, солнца не было вообще — так иллюзия, навеянная шизофренией. Какое ж солнце — без него проблем полон рот!
Некстати вспомнил Афанасий о своем свидании с Богом. Да и Бог ли это был? И если был это не Бог, но самозванец, то где же Бог? Мысль, пронзившая разум Афанасия, была слишком чудовищной, чтобы оставить ее дозревать и в конечном итоге гнить где-то в закоулках сознания. Бога украли! Злые, бездушные гоблины стырили старика и измываются теперь над ним — заставляют прыгать через кольцо и давать лапу. Нет, он этого так не оставит! Он найдет Бога и спасет его от негодяев! Афанасий принялся лихорадочно искать Бога повсюду. Поискал под снегом — нету, поискал в кармане — нету, поискал в себе….тоже пусто. И холодно. Снег каким-то образом, умудрился просочиться в душу и теперь укрывал ее ровным слоем ледяной тишины. Идеальная кристаллическая структура безразличия подкатывалась к сердцу, заставляя его биться медленнее, медленнее…
Глаза закрывались и руки опускались.
А снег все падал…
* * *
Веселой гурьбой высыпают с утра пораньше на улицы дворники. Что ни дворник — то профессор математики или доктор искусств. Обмениваясь на ходу длинными научными фразами, они разгребают сугробы, швыряют друг в друга полные лопаты окаменевшего снега, собирают примерзших кошек и бомжей на тележки и везут их в упитанные и тепло-вонючие дворницкие — на растопку.
Они уже не ждут солнца.
Проснулся утром. В семь сорок пять. Спина ноет, шея хрустит, пальцы отекли, глаза запали-спорт, не иначе.
Покушал-каша, опять и снова-полезно, замечательно, чудесно. Питательно.
Оделся-свитер, удобно, приятно, незатейливо, немодно.
Вытащил серьги из ушей-стандартно, природно, аутентично. Полагается в соответствии с насущными потребностями.
На работу на такси-по черной земле, комья взрываются, грязью залеплено лобовое стекло.
Приехал-не опоздал. Люди-опухшие, грубые, старые, провисшие, с жировыми складками на потливых лбах, с угрями в глубине щетинистых ноздрей, сморкаются, толкаются, здороваются.
Сел в кресло-чай не пью. Стошнит, обязательно стошнит. Вырвет на потеющую массу, зеленой жижей выстрелит в окружающее безобразие.
Включил компьютер-цветные пятна экрана, голос механического мозга-безликий, сонный, умный, бессознательный.
Одел компьютер в разные цвета-защелкал клавишами, серыми, неугомонными, наслаждающимися болью.
Щелкаю-работа кипит. Работы нет. Вокруг-пауки, червы, косынки. Сотрудники озабочены-кто-то выигрывает, кто-то почти разгадал, кто-то наложил, а кто-то удивил новыми, все фразы недосказаны, все слова незакончены, все взгляды фальшивы, улыбки жеманны, зубы гнилы.
Пью чай-горячий, протухший, заплесневелый. Купленный вскладчину. У кого-то обязательно не хватает, кто-то обязательно недоволен. Ворчат, но пьют. Безропотно. Сербают вприкуску, хрипят от жара.
Пью чай. Пусть стошнит. И вырву. Обязательно вырву. Намочу квадратный мир проявлением спонтанного суперэго. Вырву.
Не рву. Сублимирую. Переставляю акценты. Перефразирую предложения. Работа кипит-нужная, полезная, важная.
Сотрудники веселы-они доиграли, разгадали и покрасили. Теперь они жрут-суп стекает по жидким губам, оставляет маслянистые пятна на ненастоящих рубашках, мутные глаза светлеют в припадке живоглотства. Сотрудники обедают, они чавкают, давятся, используют руки — черпаки, смотрят вокруг жадно и злобно, придвигают тарелки, слизывают крошки со стола сырыми языками. Зубы вываливаются на ходу-за ними черные дупла, дыры бесконечной слизи.
Ем тоже. Не рвет-суп, занятно, фальшиво, невкусно. Нужно.
Сижу снова. Компьютер гудит, кругом смеются сотрудники. Час довольства-животы округлились, щеки налились синевой, глаза свиными потеками расплылись по рылам. Брызгами слюны обмениваются прямо на ходу, совокупляются виртуально и высказывают мнения, достойные рыб. Слюна свисает с потолка, вязкие кольца ее опускаются ниже. Смахиваю с компьютера-вредно, опасно. Не нужно.
Все встают. Рабочий день окончен. Поправляются, заправляются. В углу мертвая девушка-завтра она исчезнет, ее уберут. Никто не обратит внимания. Никому нет дела. Изо рта у нее торчит ложка-подавилась супом, не расчитала. Переборщила.
Целую ее ноги. Пахнет…ничем, одним словом не пахнет.
Вечерело. Профессор Павлов, высокий мужчина шестидесяти девяти лет, кутая неровно подстриженную седую голову в высокий ворот пальто, угрюмо брел вдоль длинного строения, облупившаяся краска рекламных вывесок которого напоминала кожу обгоревшего трупа. Окна здания, скучая подмигивали его покатым плечам, заигрывали с истертыми носами ботинок. От них веяло чем-то близким и понятным. Поэтому он всегда ходил, почти вплотную прижимаясь к стене, не уступая встречным людям-призракам дороги, в этом странном туманном мире.
Старику было тошно. Физическая его немощь, годами накапливаясь, перерастала в нечто большее-постоянное ощущение бесконечной гнусности, что, поселившись в сердце, в голове, в кишках его, не отпускала ни на секунду. Механически ступая по грязному месиву тротуара, Павлов то и дело кривился в гримасе отторжения. Хотелось блевать, но блевать не пищей, а скорее сущностью своего внутреннего я-вывернуть себя наизнанку, избавиться от мерзости бытия, исторгнуть самое себя…
Хотелось исчезнуть.
Облезлый пятнистый щенок неожиданно выполз из черной дыры в нижней части здания и, помахивая свиным хвостиком, потрусил к Павлову. Глаза щенка щедро источали желтоватый гной, пасть была вымазана чем-то мокрым Животное фиглярствовало, припадая на заднюю левую лапку. Зрачки пса блестели фальшивой преданностью хорошо выпившей и закусившей за счет клиента проститутки.
Павлов, нахмурившись еще более обычного, нащупал было в глубоком кармане пальто рукоятку тонкой стамески, но, вдруг передумав, высоко занес ногу в ботинке и резко опустил ее на голову щенка, в которой все сразу затрещало и забулькало.
Стараясь не глядеть на судорожно бьющуюся, ускользающую из-под подошвы жизнь, старик зажмурился и снова ударил. И снова. И снова. На четвертый раз нога его увязла в чем-то мягком и жирном. С отвращением, Павлов дернулся и потрусил по переулку, то и дело шаркая ступней, стараясь избавиться от назойливого липкого тепла, что обволакивало его.