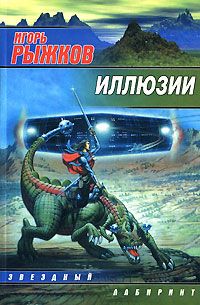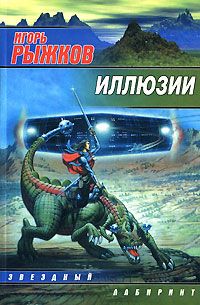Интересно, что у истоков «Китежа» стояли советские неофициальные педагоги-энтузиасты из так называемого «коммунаровского движения». Начиная с конца 1960-х «коммунаровские педагоги», относившиеся довольно критично к советской системе, но не к советской идеологии, ставили перед собой задачу «перезагрузить» социализм (изжить инерцию сталинизма), воспитав как можно больше детей в новом, неофициальном, творческом и ответственном духе. После краха советского социализма большинство педагогов-коммунаров эволюционировали в сторону православия и экологических идей.
Несмотря на то что «китежане» заняты «нормализацией» и «социализацией» подростков, для калужского проекта важно само понятие «Китежа» как образа возможности «иного общества», глубоко утопленного внутри нас, скрытого как нереализованный вариант и невидимый, упускаемый шанс внутри существующего общества.
Более радикальная и ортодоксальная «ветвь коммунарства», открывшая научные формулы счастья и справедливости, основала собственную аграрно-духовную общину под Харьковом, нынешние порядки в которой сильно напоминают революционную Кампучию Пол Пота в миниатюре. Все свободное пространство завешено мотивирующими лозунгами, полный контроль «теоретиков», достигших более высокой степени сознательности, над речью, распорядком дня, питанием и сексуальной жизнью простых «практиков», 15-часовой рабочий день и принудительное ведение «открытых» дневников, которые называются «внешняя совесть».
25/ Субкультура и подполье
Добровольно выбранная, а не «положенная по рождению» субкультура — это всегда возможность самосегрегации. От мысли «мы другие, не такие, как большинство» до мысли «почему бы нам не жить вместе, компактно, держа безопасную дистанцию со всеми остальными, не похожими на нас» — всего один шаг. Если вы создаете субкультуру, вы создаете возможность, почву и среду для вероятной добровольной сегрегации группы энтузиастов.
Это интересно проявилось в 1960-х в движении «чернокожих» за свои права. Изначально это движение разбудили и вдохновляли лидеры вроде Мартина Лютера Кинга, и пафос их был таков: мы хотим смешаться с белыми, учиться в их школах, ходить в их рестораны, ездить в их автобусах, разделить в полной мере их историю, иметь равный с ними доступ к современности и общее будущее. То есть весь смысл был в том, чтобы покинуть территорию навязанной сегрегации и стать частью большого общества, полноправными гражданами американской нации. Но вскоре ситуация изменилась.
Уже Малькольм X поставил под сомнение необходимость смешиваться с белым большинством и разделять его культуру. Ислам стал для него основой новой идентичности «людей без исторического прошлого», и эта идентичность заявлялась как гораздо более перспективная, конкурирующая с белой (христианской и буржуазной в своей основе) идентичностью «бывших рабовладельцев». «Черные пантеры», пришедшие на смену прежнему «движению за равноправие» времен Кинга, были в восторге от идеи «не смешиваться», подчеркивать свою «негритянскость», сделать ее модной и привлекательной, а гетто объявить самыми крутыми местами в США и всячески раскручивать этот образ «негритянской крутизны, не доступной белым мальчикам из колледжей». Прежние социальные отношения в новом мифе пережили инверсию, вывернулись наизнанку: да, ваши предки виновны в том, что загнали наших предков в гетто, но уже ничего не изменишь, и мы не хотим из гетто выходить, наоборот, вы будете ходить сюда, чтобы завидовать и подражать нам. Основой конкурирующей идентичности «пантер» стал партизанский коммунизм третьего мира и идеи председателя Мао. Одно время они даже разрабатывали свою версию «американского языка», альтернативную «языку белых медиа», многие слова там употреблялись и писались иначе с учетом непримиримого антагонизма между «белым буржуазным большинством» и «черным пролетариатом». Этот черный языковой футуризм и другие эксперименты интересно смотрелись в их газетах, оформленных очень крутым по тем временам художником и дизайнером Эмори Дугласом, хорошо знавшим не только, что такое жизнь в гетто, но и что такое дадаистский коллаж или поп-арт.
Теперь, если белый студент левых взглядов приходил на их собрания и спрашивал: «Чем мы можем помочь вашему движению?», ему отвечали: «Пойди домой, возьми пистолет отца и вышиби мозги своей семье, а потом и самому себе!», а битнические поэты, следуя за Лероем Джонсом, переходили в ислам, брали себе новые имена и объявляли себя «белыми неграми». Эта идея — быть примером для белых, считать себя круче и выше, имела успех: сначала в моду вошли прически «афро» в духе группы «Бони М», явно копировавшей внешний имидж «пантер», потом стал популярен рэп, как политический в духе «Паблик энеми», так и «гангстерский». А еще позже возник и «белый рэп», то есть культура, в которой белые заискивающе подражали черным. «Мы не такие, как вы, и мы не хотим быть такими, как вы, наоборот, вы захотите походить на нас» — это сработало. Вынужденная сегрегация выглядела теперь как добровольная. Гетто объявлялось «местом для крутых».
Интеллектуальную ответственность за этот успешный проект отчасти несут Жан-Поль Сартр и его ученик Франц Фанон. Именно они разработали и распространили в тогдашней гуманитарной среде концепцию «негритюда», цель которой превратить все минусы сегрегации в плюсы, сделать слабость силой и в конечном счете превратить вынужденность и позорность сегрегации в нечто добровольное, привлекательное, более прогрессивное для окружающих. «У наследников рабов нет национальной памяти, на которую они могли бы сослаться?» — спрашивал Сартр, — великолепно, это значит, что они свободны от инерции прошлого и могут сконструировать свою новую современную «негритянскость», как и из чего захотят. Их не разделят этнические барьеры, они все «чернокожие без прошлого». Их обвиняют в дикости и варварстве? Они превратят это в экзистенциальный героизм ближайшей революции! Им недостает культуры? Они создадут новую, так и не узнав старой, неисправимой.
Похожими на американских «черных пантер» хотели быть и европейские «городские партизаны» из ультралевых групп 1970-х годов. Это другой пример перехода субкультуры (в данном случае внепарламентских левых) в самосегрегацию вооруженного подполья. Трагический и рискованный вариант добровольной сегрегации: все живут на конспиративных квартирах, которые, правда, приходится регулярно менять, связи с обществом сведены к минимуму и являются тотальной маскировочной ложью, «легендой». Фактически подполье существует за счет «среды поддерживающих», кто бы они ни были, от заигрывающей с революцией богемы и ненавидящих капитализм миллионеров вроде Фельтринелли до агентов иностранных разведок.
Первый опыт по-настоящему совместного и по-настоящему отдельного «группового бытия» члены немецкой RAF пережили в ливанских горах у палестинских беженцев, где, напялив камуфляж, береты и палестинские платки, покрасив черным, «под арабов», волосы и брови, немецкие боевики месяцами тренировались в стрельбе из всех видов оружия. Жили коммуной в одном доме. Из личных вещей только одежда в тумбочке и автомат — у каждого над кроватью. Потом палестинцы мягко попросили немецких друзей вернуться домой: во-первых, не умеют экономить патроны, во-вторых, «развращают наших детей»: RAF устроили на крыше нудистский пляж, а в лагере тренировалось немало местных подростков, будущих «живых бомб». Им такое зрелище не полагалось.
Психологи много занимались «образующим RAF типажом»: склонные к пижонству мальчики, воспитанные без отцов, и начитанные девочки с глубоким комплексом несостоявшихся монахинь и миссионерок идеально дополняли друг друга в нелегальной группе, для которой любимым способом общения с «большим обществом» стало насилие. «В генетической войне нет нейтральных», — любили они цитировать Тима Лири, воспринимая себя, пусть и метафорически, как популяцию нового вида, идущего на смену «рыночным питекантропам». Все, кто боялся и соблюдал закон, были для людей нового вида всего лишь устройствами, биологическими приставками к финансовым потокам, падающим по ступеням властных иерархий, двуногими машинами воспроизводства рыночных отношений. «Другие правила дорожного движения» — озаглавил свой текст адвокат Хорст Малер, ставший одним из харизматиков подполья. Другим и «новым» людям требовались другие и новые правила. Малер вообще любил «машинные» метафоры. В снятой им конспиративной квартире у окон и дверей весь день работали магнитофоны, выдававшие на лестницу и на улицу стук пишущих машинок. Изображался офис. Собирались зажигательные бомбы. Они взяли себе новые имена. Политическая журналистка Ульрика Майнхоф находила эти имена в «Моби Дике», очень важном для идентичности всей группы романе. Эти имена были для внутреннего общения, кроме них были фальшивые документы с ложными именами для общения с внешним миром. Были ведь и третьи имена, совсем забытые, которыми их когда-то назвали родители. Один из тогдашних партизан вспоминает: