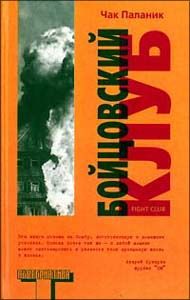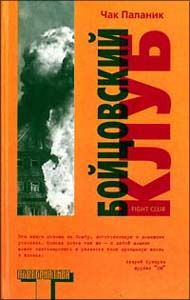Но этого я в тот момент не знаю, а знаю я, что вижу огни, огни грузовика мигают и исчезают в темноте, и меня скидывает к дверце, а потом кидает к торту и к механику за баранкой.
Механик вцепляется в рулевое колесо, пытаясь с ним совладать и держаться ровно, а свечи будто гаснут. В одну великолепную секунду в тёплом салоне чёрной кожи нет света и наши крики сливаются воедино, на одной и той же глубокой ноте, на одинаково низком стоне сигнала грузовика, и у нас нет контроля над машиной, нет выбора, нет направления и нет спасения, и мы мертвы.
Моё желание сейчас — умереть. Я в мире ничто по сравнению с Тайлером.
Я беспомощный.
Я тупой, и всё, что я делаю, так это хочу это и то, и вот это, пожалуй.
Моя маленькая жизнь. Моя маленькая дерьмовая работа. Моя шведская мебель. Я никогда, нет, никогда не говорил об этом, но до того, как я встретил Тайлера, я хотел купить пса и назвать его «Антураж».
Вот какой хреновой может быть жизнь.
Убей меня.
Я хватаюсь за баранку и возвращаю нас на встречную полосу.
Сейчас.
К эвакуации души приготовиться.
Сейчас.
Механик вырывает колесо, чтобы съехать на обочину, а я вырываю, чтобы, чёрт побери, умереть.
Сейчас. Восхитительное чудо смерти, когда в один момент ты ходишь и говоришь, а потом неожиданно становишься неодушевлённым предметом. Объектом.
Я ничто и даже меньше, чем ничто.
Холодный.
Невидимый.
Я чувствую запах кожи. Мой ремень безопасности перекрутился вокруг меня, будто рукав смирительной рубашки, и когда я пытаюсь сесть, я ударяюсь головой об рулевое колесо. И это больнее, чем может показаться. Моя голова покоится на колене механика, и я гляжу вверх и, присмотревшись, вижу вверху улыбающееся лицо механика, ведущего автомобиль, и вижу звёзды в окошке водителя.
Мои руки и лицо в чём-то липком.
Кровь?
Масляный крем.
Механик смотрит вниз.
— С днём рождения.
Я чувствую дым и вспоминаю о торте.
— Ты чуть руль не сломал своей головой, — говорит он.
И ничего другого, только ночной воздух и запах дыма, и звёзды, и механик, улыбающийся и ведущий машину, моя голова на его колене, и я не думаю, что мне обязательно нужно сесть.
А где торт?
Механик отвечает:
— На полу.
Только ночной воздух и всё более крепкий дым.
Исполнится ли моё желание?
Надо мной улыбается профиль на фоне звёзд: — Эти свечи, — говорит он, — они никогда не потухнут.
В свете звёзд мои глаза привыкают к темноте, и я вижу, что дым поднимается от маленьких огоньков вокруг нас на коврике в салоне.
Механик из бойцовского клуба давит на газ, тихо бесится за баранкой, и у нас ещё что-то остаётся. Что-то невыполненное.
Единственная вещь, которой я должен научиться перед концом цивилизации — это как смотреть на звёзды и рассказывать, куда я иду. Стоит тишина, будто «Кадиллак» движется в глубоком космосе. Мы, должно быть, съехали с шоссе. Трое парней на заднем сиденье то ли вырубились, то ли спят.
— Ты был близок к жизни, — говорит механик.
Он отнимает руку от рулевого колеса и касается длинного шрама, возникшего после того, как я головой врезался в рулевое колесо. Мой лоб так опух, что я жмурюсь от боли, а он пробегает холодными пальцами по всему шраму. «Корниш» подскакивает на кочке, и боль словно старается вырваться из-под черепа, будто тень, злая тень. Наш покорёженный багажник подпрыгивает, а бампер скрипит в тишине, пока мы едем по ночной дороге.
Механик говорит, что буфер висит на волоске: при столкновении он зацепился за бампер грузовика.
Я спрашиваю, сегодняшний вечер является домашним заданием для проекта «Разгром»?
— Частично, — говорит он. — Мне надо совершить четыре человеческих жертвоприношения и загрузиться жиром.
Жиром?
— Для мыла.
Что планирует Тайлер?
Механик начинает говорить, и это чистый Тайлер Дерден.
— Я вижу сильнейших и умнейших мужей, которые жили когда-либо, — говорит он, его профиль виден на фоне звёзд в окне водителя, — эти люди работают на бензоколонках и обслуживают столики.
Его лоб, брови, нос, ресницы, глаза, мягкий подвижный контур рта — всё это выглядит чёрным на фоне звёзд.
— Если бы мы могли собрать этих людей в тренировочных лагерях и взрастить их.
— Всё, что делает пистолет, — это направляет взрыв.
— У нас образовался класс молодых сильных мужчин и женщин, и они хотят отдать свои жизни за что угодно. Реклама заставляет этих людей гоняться за машинами и шмотьём, которое на самом деле им не нужно. Поколения их работают на работах, которые они ненавидят, просто потому, что тогда они смогут купить то, что им не нужно.
— У нашего поколения не было великой войны или великой депрессии, но у нас есть война духовная. Мы совершаем великую революцию против культуры. Великая депрессия — это наше существование. Мы пали духом.
— Мы должны поработить этих мужчин и женщин, чтобы показать им свободу, напугать их, чтобы показать им отвагу.
— Наполеон хвастался, что он может заставить людей пожертвовать своими жизнями за кусочек ленты.
— Представь, мы вызываем удар, и все отказываются работать, пока мы не перераспределим богатства всего мира.
— Представь, что ты охотишься на лося во влажных лесах на склонах каньона у руин Рокфеллер-центра.
— Когда ты сказал о своей работе, — говорит механик, — ты это всерьёз говорил?
Да, всерьёз.
— Вот почему мы сегодня вечером на дороге, — говорит он.
Мы — поисковый отряд. Мы ищем жир.
Мы едем на больничную свалку.
Мы едем в хранилище отходов при станции сжигания, и среди перевязок и забракованных бинтов, и опухолей десятилетней давности, и внутривенных катетеров, и ненужных игл, всякой пугающей мелочи, на самом деле пугающей, среди анализов крови и ампутированных кусков мясца мы найдём больше денег, чем можно заработать за один день, даже если ты водитель дерьмовоза.
Мы найдём денег достаточно, чтобы загрузить этот «Корниш» так, что пузом он будет по земле чиркать.
— Жир, — говорит механик, — жир, который отсосали с богатейших ляжек Америки. Богатейших, жирнейших ляжек мира.
Наша цель — большие красные упаковки с жиром, которые мы свезём на Пейпер-стрит и выварим, и смешаем с щёлоком и розмарином, и продадим лучшим людям, которые заплатили за то, чтобы его отсосали. По двадцать баксов за брусок, это не каждый толстосум может себе позволить.
— Лучший, самый густой жир в мире, жир нашей страны, — говорит он. — Это превращает вечер в одну из проделок Робин Гуда.
Капля воска брызгает на коврик.
— Пока мы здесь, — говорит он, — мы должны посмотреть ещё и вирус гепатита.
И теперь вот появились слёзы, и одна толстая влажная полоска скатывается по стволу пистолета, по скобе, к спусковому крючку, чтобы растечься по моему указательному пальцу. Рэймонд Хессел закрыл глаза, и я посильней нажал пистолетом на его висок, чтобы он постоянно чувствовал давление, и что я — рядом, и что это его жизнь, и он может в любой момент оказаться мёртв.
Это недешёвая пушка, и я задумываюсь, может ли соль испоганить её.
Всё пошло так легко, думаю я. Я сделал всё, что сказал мне механик. Вот зачем нам надо было купить пистолет. Это домашнее задание.
Каждый из нас должен был принести Тайлеру двенадцать водительских удостоверений. Это доказывало, что мы сделали двенадцать человеческих жертвоприношений.
Вечером я припарковался и ждал за углом Рэймонда Хессела, заканчивающего свою смену в круглосуточном универсаме «Корнер», и в районе полуночи он вышел и стал ждать ночной автобус, а я подошёл к нему и сказал: «Привет».
Рэймонд Хессел, Рэймонд ничего не сказал. Возможно, он вообразил, что я пришёл за его деньгами, за его минимальной зарплатой, за четырнадцатью долларами в бумажнике. О Рэймонд Хессел, все твои двадцать три года, начиная с момента, когда ты впервые заплакал… слёзы стекают по стволу пистолета, прижатому к твоей черепушке, это не из-за денег. Не всё случается из-за денег.
Ты даже не сказал «привет».
Ты — это не твой унылый маленький бумажник.
Я сказал, хорошая ночь, холодно, но свежо.
А ты даже не сказал «привет».
Я сказал, не беги, а то мне придётся выстрелить тебе в спину. Я вытащил пушку, а рука у меня в медицинской перчатке, так что если даже пушку будут изучать как бесценный экспонат, на ней не будет ничего, кроме высохших слёз Рэймонда Хессела, двадцатитрёхлетнего белого без особых примет.
И тогда я привлёк твоё внимание. Твои глаза были такими большими, что даже в свете уличных фонарей я увидел, что они зелёные, как антифриз.
Ты отходил назад и назад — с каждым разом, когда пистолет касался твоего лица, всё дальше, как если бы ствол был ужасно горячим или жутко холодным. Пока я не сказал — ни шагу назад, и тогда ты позволил пистолету дотронуться до своего лица, но даже тогда ты вертел головой перед стволом.