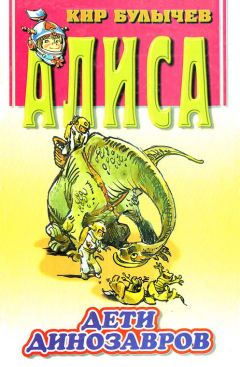Вениамин улыбнулся, высокий тощий тип в зеркале улыбнулся тоже. Это он первый освободился от стакана, это ему первому удалось поставить свой стакан на стойку, тогда как Вениамина все еще кто-то держал за руку, и он не решался освободиться.
– Девушка, – сказал высокий тощий, – у меня тут не сто, а сто пятьдесят.
– Я тут недавно, – сказал ребенок, – и еще ничего не знаю.
Молчание. Сопение. Калькулятор вынырнул, отодвинул груди и пепельницу, утвердился на стойке. Не прошло и пяти минут, как они сошлись на том, что Вениамин должен двадцать один рубль пятьдесят копеек. (Не спрашивай, не спрашивай, Мураками, как они произносили это число: ответить – выше моих сил.) Водка плохо пошла и не пожелала сразу ударить в голову, но, когда Вениамину все же стало хорошо, как школьнику, вышедшему с урока математики на майский двор, на многообещающий майский двор, белый от ватки тополиного пуха, девушка, которая вчера уехала, сказала ему:
– Пойдем на пляж. Хватит спать. – Она приподнялась на локтях над туго свернутым матрасиком и, полусидя, мотала головой так, чтобы волосы щекотали Вениамину щеку. Были еще мухи. Синие. Две.
В зеркале над головой тоже творилось нечто неладное. Спать давали, ходили на цыпочках и все молчали. Проворное отражение Вениамина сразу сникло: там ему стало бесприютно и даже немного холодно, и все это от такого количества людей в пальто. Угрожающей была их неподвижность. Нельзя же просто так стоять на одном из самых главных и самых мерзких бульваров города, сером, грязном, так что даже внутренность пакетиков, вообще-то зеркальная, неба не отражает, и лежат они, раздавленные, под ногами, и попадаются чаще, чем опавшие листья. На всех кепки, кожаные пальто, и дальние ряды одеты так же плотно, и кое на ком чернеют перчатки. Сникшее отражение Вениамина протискивалось и старалось не потерять из виду единственный движущийся плащ, бордовый, как дерматин барной стойки. Сначала только потому, что этот плащ двигался. Медленно между стоящими проходила его девушка, которая вчера уехала. Но его отвлекали. Вот мать Вениамина говорила подруге:
– Ну и за каким хуем он туда поперся? Нет, ты посмотри на него: ничего ведь в нашей жизни ему не надо. Только ест и спит…
А подруга возражала ей (отвлекающий жест рукой, описавшей некий пунктирный нимб над бульваром):
– О какой жизни, Галя, ты говоришь? И чего, чего в самом деле можно хотеть от этой жизни? Мой муж запирается в туалете…
И вдруг девушка, которая вчера уехала, оказалась прямо у него под ногами. Она сидела на корточках с бледным от натуги лицом и быстро-быстро, с обидой, говорила ему:
– Я уже совсем готова была полюбить вас, а вы… Что вы делаете? Выньте руки из карманов! Немедленно выньте руки из карманов. – И выпрыгнула у него из-под ног и бросилась к почтенно брыластому старику, который стоял, руки в карманах, стоял колоколом, выпятив живот и одновременно отставив зад. У него были пышные усы, словно из ваты, и каждое волоконце, коричневое от никотина, клубилось папиросным облачком. – А вы быдло! Все вы быдло! – кричала девушка, размахивая рукавами, волосами, сумкой. Не знаю, почему она его не ударила. Господин, который подошел сбоку и положил на плечо Вениамину руку в перчатке, был квадратный, в дорогой коричневой коже, но чем-то похож на оскорбленного старика и, вместе с тем, во всех отношениях меньше него и уже. Вероятно, выскочил из него, как из матрешки, или неудачный родственник.
– Послушай, твоя девка оскорбила хорошего человека. Вениамин, стыдясь немного своей подвижности и летней одежды, согласился:
– Да, понятия не имею, за что это она его.
– Ты, давай отойдем, – сказал квадратная кожа.
«Конечно, – вяло подумал Вениамин, – придется потерпеть». И опять его будут бить за то, что он высокого роста. А девушка, может быть, тут ни при чем.
– Говорю вам это не потому, что вас боюсь, а для того, чтобы между нами не было взаимной злобы. Я готов за нее извиниться. Возможно, она была не в себе или просто чем-то расстроена. С девушками это часто бывает. И с моей тоже.
– Разумеется, разумеется, – отвечал квадратная кожа, беря его под руку и уж больше не отпуская, – ваши извинения принимаются, но вы и меня должны понять. Я же должен постоять за хорошего человека. Посудите сами, бить девушку я бы не стал. А тебя, сука, я урою.
Нужно было найти, по возможности, безлюдное место, но везде на бульваре стояли и держали руки в карманах, и девушки нигде не было видно. И поэтому они направились прямо к маленькой пивной, закрытой металлическими щитами и недавно переделанной из павильончика автобусной остановки.
– Ты подожди, – сказал квадратная кожа, обойдя стойку (бармена не было видно), – я сейчас им скажу, чтобы всех отсюда на хуй. Ведь правда, что нам не нужны лишние? Только один на один?..
Вениамин кивнул: конечно, конечно, – и отошел в угол к нефтяного цвета лужице, над которой без тени смущения сидел инвалид; ему, наверное, все прощалось. Но Вениамину тут же пришлось усомниться в благородстве квадратной кожи, так как из-за стойки стали выходить люди. По двое, по трое, все тоже квадратные, но драповые, все в серых кепках; они потеснили Вениамина к дальней от входа стене, ему пришлось зайти ногами в лужу, над которой сидел инвалид. Прислонив к бедру костыль, он курил папиросу. Он смотрел себе под ноги и, когда летние сандалии Вениамина захлюпали в лужице, даже не вздрогнул, а когда Вениамин ему сказал:
– Вам лучше уйти, собирается драка, – поднес ко рту папиросу, которая казалась давно потухшей, но нет, беленький картон стал желтеть от дыма, который въелся в шовчик, и пепел выбирался наружу не только с опаленного конца, но и сквозь язвочку на боку папиросы. – Лучше уйти, – повторил Вениамин. Инвалид окоченел. – Ну, как хотите.
Надо было еще найти среди них квадратную кожу и попенять ему: что же это он? К чему было обманом тащить его в эту пивную? Но там никого не осталось. Только двое заснули, улеглись правой щекой на бочку, и ближний к Вениамину положил рядом с головой желтый сжатый кулак. Складчатые, покрытые седой щетиной затылки. И никакого облегчения, что бить его сейчас, похоже, не станут. Надо было еще выбраться из пивной.
Долго не удавалось освободиться от присутствия этих двоих, что спали на бочке, да еще инвалида. Бывало, Вениамин идет к выходу большими шагами и о многом успеет подумать, и сто раз себя спросить, куда могла деться девушка, которая вчера уехала? Обернется: спят на бочке. Один раз он даже открыл дверь, вышел на улицу, прошел всю ее, гадкую, серую, пустую, с идиотским названием, и уже в его воображении представились другие идиотские улицы: Физкультурная, Спортивная, Стадионная, Трамплинная, Вратарская и тут же, Вратарскую пересекая, – Голкиперская, как перед ним опять, грибами утеплительной пенки на вертикальных щелях гофрированной жести, выросла стена пивной, плевки, копоть. Обернулся: спят на бочке. И сколько бы, комкая мокрыми (в луже под инвалидом вымокшими) пальцами ног подбитый край простыни, ни бежал он вперед, перед глазами потом так стена стеной и оставалась. И даже когда он совсем уже, от боли в шейных позвонках, съехал головой с неудобного валика на теплые, охнувшие ребра своей кровати, у него за спиной, поперхнувшись папиросным дымом, раскашлялся инвалид. Вениамин машинально обернулся. И снова: спят на бочке.
Ниже ребер у нее все было нежное, мягкое, немного влажное от жары; спасаясь из пивной, Вениамин ударил ее локтем, и там увяз. Больно, подумала она, и неудобно, и мухи здесь пробегают по животу холодными лапками. И надоело слушать его бормотание и смотреть, как он чешется, раздирая кожу нечистыми ногтями. Она взяла его за плечо, потрясла.
– Просыпайся. Говорят, это вредно – спать на солнце, когда выпьешь водки на голодный желудок. Есть же крекеры. (Шелест пакетика, потом хруст.)
И Вениамин понял, что спасен, что вернулся к реальности.
– Дай я тебя поцелую, – пробормотал он, все еще боясь открыть глаза, потянулся вслепую и – промах! – набрал полный рот песка.
Девушка, которая вчера уехала, лежала на розовом полотенце, играя пальцами ног, и, когда увидела его, увидела, как он отплевывается, перевернулась на живот и, тихо посмеиваясь, принялась пускать ему на спину каких-то быстрых насекомых, которые передвигаются прыжками, забираются под плавки и потом накапливаются в подколенной ямке.
– Не дыши в ухо, – сказал Вениамин и уставился в стену.
Эта стена из грубого камня отделяла пляж от проезжей дороги, цемент между камней выступил наружу подтеками и делал ее похожей на многослойный неопрятный сэндвич. Она держалась на железобетонном основании высотой метра полтора, и на нем, у самого песка, углем (писали, должно быть, лежа): «Катя и Алис тут сосались. Мы лизбианки». На этот раз подростков под стеной было двое, и они еще не успели напиться, поэтому один, широко раскрыв рот, демонстрировал другому коренной кариозный зуб, а другой, изучая его, говорил: