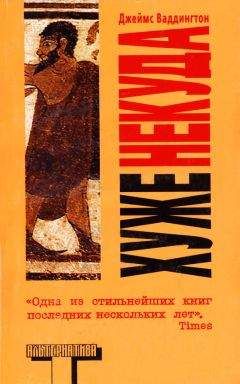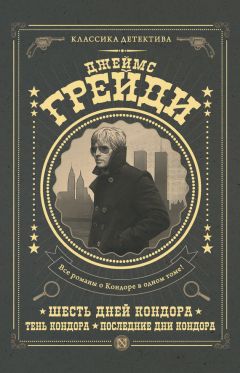Патруля не в первый раз восхитила рассудительность этого тихони.
— Не сейчас. На сегодня скажу одно: о том, что случилось, и о глупой песенке никому ни слова.
Уходя, Жакоби хлопнул товарища по плечу в знак обоюдного доверия. Со временем, пожалуй, и он сделается достойным лидером.
— Доброй ночи, сеньор Азафран, — донеслось на прощание из темного зала для танцев.
— Так вот, значит, чем мы занимаемся, когда погаснут огни? Болтаем с мальчиками по душам? — послышался от раскрытой двери тихий голос Акила.
Нечто крайне досадное прозвучало в этих словах, обращенных к человеку, бывшему столько лет самым близким другом Саенца. Патруль без церемоний отбрил бы его не менее язвительным замечанием, но не стал. Железная выдержка, стальные нервы еще никогда не подводили его в нужную минуту.
— Хватит притворяться, что ничего не происходит, — только и сказал он. — Должны наконец и мы принять меры…
— Против балаганных шутов? — усмехнулся Акил. — Против уличных музыкантишек, нанятых каким-то уродом?
— Ах вот как было дело? И кто же этот урод, позволь спросить? Кто их нанял?
Саенц приблизился к Азафрану. Мужчины бок о бок оперлись на решетку балкона. Нить накала в уличной лампе, причудливая завитушка в чугунной клетке с налетом древности, покосившаяся градусов на двадцать, явно доживала последние мгновения, шипя и мерцая лихорадочными желтушными вспышками.
— Какого хрена ты здесь делаешь, кстати?
— Акил, пожалуйста. Если ты в курсе, кто за этим стоит, просто скажи.
— Куда уж яснее?
— Не знаю. Куда?
— Кто же еще?
— Не надо, старина, хватит изворачиваться. Ну же?
— Не спится, ребятки?
Патрулю не нужно было видеть лицо товарища, чтобы понять: вот он, сверхъестественный ответ.
Флейшман шагнул между мужчинами; его правая рука ровно легла на плечо Азафрана, а левая пересекла спину Саенца, словно патронташ. От доктора так и разило чистотой, свежестью и здоровьем, однако недаром говорится: унюхаешь туалетный дезодорант — подумаешь о дерьме. По коже Патруля пробежали мурашки, словно вокруг его плеч обвился голодный змей, источающий гнилостное дыхание.
Флейшман, у которого тоже имелось чувство времени, опустил обе руки.
— Микель, — отстраненно, глухо промолвил Патруль, — твои наемники смутили наш покой там, на Лисарьете, эти бандиты с их дурацкими, пугающими намеками… «Что делает колбасник со своими сардельками, когда они готовы, такие большие и жирные?» Зачем тебе это, Микель?
Даже в наступившем безмолвии, среди кромешного мрака любой, у кого в голове остались извилины, ясно ощутил бы: Флейшман поражен до глубины души.
— Что?.. — Затяжное молчание. — Давай-ка по порядку. Спокойно. Расскажи все, как было.
— Значит, мы поднимаемся по склону, не торопясь, каждый занимается своим делом, и вдруг… — Азафран изложил неприятные события, но вместо подлинного описания воссоздал по памяти отрывки из полицейских отчетов Габриелы Гомелес: — Громадные такие мужики, метра под два, наверное, трудно судить, когда ты в седле, с грубыми голосами, вооруженные до зубов, и запашина — хоть святых выноси…
Флейшман ловил каждую подробность.
— Мужчины, говоришь? Все трое? Высокого роста?
— Самые что ни на есть бугаи, — кивнул гонщик. — Здоровые, как слоны.
Микель, очевидно, понятия не имел, о чем речь.
— Козлы вонючие, — раздраженно прохрипел Саенц.
— Так ты подтверждаешь слова своего друга? — вскинулся доктор. — Ничего не добавишь?
Сердце Патруля учащенно заколотилось, но товарищ лишь угрюмо повторил:
— Козлы вонючие.
— Тебе нужно принять кое-что на ночь и ложиться спать. Идем, Акил.
И Флейшман повел величайшего велогонщика истории в кромешную мглу танцзала.
— Постой, Микель, — окликнул Азафран. — Ты хоть знаешь, как нас огорчила эта история, после Сарпедона и прочего? Акил расстроен, я тоже. Зачем ты это сделал?
Доктор вернулся на балкон, оставив чемпиона стоять в темноте, как малое дитя.
— Дорогой мой Патруль, — проникновенно сказал Флейшман. — Если только я выясню, чья это затея… Самое важное для меня — душевное здоровье гонщиков, особенно Саенца. Мы трое повязаны одной веревочкой, скованы одной цепью. А вас, сеньор Азафран, я искренне и глубоко уважаю. — Он поймал кулак собеседника и запечатлел на нем поцелуй.
«Твоей проклятой веревочкой, — думал Патруль, пока в темноте затихали шаги. — Меня-то не впутывай, приятель».
С тех самых пор Саенц держался в тени собственной команды, однако и не давал повода соперникам заблуждаться на свой счет. Игры закончились.
На следующий день после памятного разговора состоялся большой Пиренейский заезд. Гонщикам предстояло преодолеть две горные седловины и финишировать на третьей. Первым на гребень среднего склона взлетел Пелузо, на минуту и семнадцать секунд отставала от него группа лидеров, включая Карабучи, Тисса и молодое поколение «горняков» — Кейно, Мойо, Эбола, Тодден, аль-Удин, Кавоуга, Доллар-Ого. Во главе, собрав в кулак свою мудрость, опыт и силу, мчал почитаемый всеми Азафран, а за ним, у самого колеса, прикрытый от ветра и отвлекающих перепадов чужой скорости, с каменным лицом катил Саенц.
На вершине друзья провели классическую рокировку. Акил переместился вперед, товарищ сел ему на колесо, и гонщики слетанной парой устремились вниз, навстречу коварным крутым поворотам. Следовавший за ними Карабучи, в точности угадав дальнейшие события (то есть предвидя, как вскорости Патруль с умыслом отпустит Саенца к славе), попытался обойти обоих, но Азафран, стараясь по своему обыкновению удержаться в рамках неписаного кодекса чести, без которого велоспорт давным-давно выродился бы в хулиганские разборки на трассах, умело загнал противника на грань обрыва. Карабучи и тем, кто катил за ним, пришлось немедленно дать по тормозам, дабы не рисковать жизнью. Акил со свистом унесся на добрых полсотни метров вниз по дороге, и это был истинный конец Тура. Уже на спуске Саенц настиг Пелузо; последний пункт состязания — лыжная станция, расположенная на финальном подъеме на высоте в тысячу девятьсот метров — встретил гонщика с опережением в три минуты тридцать пять секунд. На подиуме чемпион принимал желтую майку победителя с видом цезаря, у чьих ног слагают дань, цезаря, не ведающего улыбки. Начиная с этого дня и до Парижа он упрочивал свое лидерство с непреклонной жесткостью. И если первую половину «Большой петли» комментаторы окрестили самой фривольной в анналах «Тур де Франс», то вторая по праву получила звание самой угрюмой.
Последний и величайший вклад Саенца в историю веломногодневки, как единственного гонщика, одержавшего шесть полных побед, не вызвал ни у кого особенной радости. Празднование прошло, как положено: речи, тосты, банкеты, награды, почести, однако на сей раз без обычного подъема чувств, сияющих от гордости лиц и т. д.
Выигравшая команда устроила памятный ужин для всех своих членов, с непременным условием надеть фирменные блейзеры «Козимо». Пиршественный стол буквально ломился от разнообразнейших кулинарных изысков, по вкусу до странности напоминающих полуфабрикаты, в которые почему-то забыли добавить искусственные ароматизаторы. Председатель конгломерата выступил с речью о предназначении спорта, где дух человеческий, воля, мастерство и сила обрели высочайшую форму самовыражения. Слушатели еще громко хлопали, когда из-за стола поднялся Микель Флейшман и заговорил о том, что хотя порой состязания и приобретают дурную славу по причине настоящих издевательств над телами атлетов, но пример Акила Саенца, его нынешний — и, надеемся, не последний — триумф ясно доказывает: правильное питание, программа тренировок, скрупулезно составленная на основании новейших достижений и тщательно выверенная для каждого гонщика в соответствии с его личными биометрическими показателями, а превыше всего — внимательная забота, дружеская атмосфера позитивного настроя и взаимной поддержки способны достичь результатов несравненно больших, нежели применение сложнейших химикалий, которым нет места в природе. По окончании спича публика вновь разразилась аплодисментами — надо сказать, довольно сдержанными со стороны председателя «Козимо фармацевтикалс». На этом торжественный ужин, скорее похожий на обедню в церкви, закончился, и мы разошлись по домам.
Во время «Сан-Себастиан классикс» на трассе прогремел взрыв. Состязания не были прерваны, однако маленькому мальчику в толпе туристов срезало половину лица.
Акил, похоже, расстроился. Не спешите упрекать автора данных строк в нечуткости. Разумеется, нигде, от Майами до Заира, дети страдать не должны. Учитывая, что мир наш далек от идеала, можно спросить: почему, собственно, малыш, пострадавший на соседней улице, вызывает больше сострадания, чем его сверстник, подорвавшийся на фугасной мине в Анголе или же отравленный газом в горах Анти-Таурус? Саенц не был родом из этих мест и в жизни не поддерживал никаких политических движений — следовательно, если разобраться, гонщику было не в чем винить себя. И все-таки новость его опечалила. «На том же месте могла оказаться моя дочь, Иридасея», — твердил мужчина.