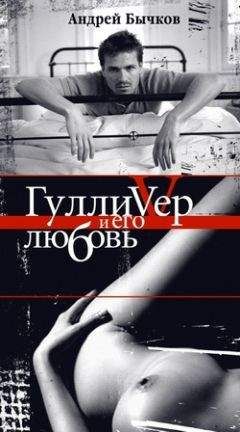– Эм, я, если честно, подустал.
– А ты, кстати, всегда какой-то «подуставший». Непонятно только, от чего.
– Да ни от чего. Пустота доконала. Думает, я прикалываюсь, но это серьезно.
И вот она на меня все смотрит и, сама того не замечая, погружается в задумчивость – в свой мир или еще куда, и в этот миг у нее делается совершенно другое лицо. Будто где-то там прячется маленькая девочка, еще ребенок, и выглядывает, думая, что ее не видно. Эта малышка такая очаровательная и неиспорченная, что от одного ее вида дух захватывает. Как-то подзабылось, что на свете еще живут бесхитростные люди. Она нежная, ее легко обидеть. Я чуть не разрыдался.
– Ты что? – спрашивает Эм.
– Да все ты, – отвечаю.
– А что со мной?
– Ты такая красивая!
Для меня красота – не внешность, а ощущение. Наверное, как и для всех. Мэрилин Монро – отнюдь не эталон: у нее одутловатое лицо, если посмотреть на случайные снимки, где она не позировала. Но есть в ней что-то трогательное, некая мольба: пожалуйста, любите меня, я так хочу нравиться!.. Это подкупает. Лично я считаю, что в душе она – все та же малышка, которая хочет, чтобы ее обняли и приласкали, но поскольку она уже взрослая женщина, это чувство облекается в секс. И вообще потерянные дети – страшное дело. Как-то по телику показывали сюжет про сиротские приюты в Китае, о брошенных на верную смерть младенцах. Я пять минут посмотрел и не выдержал, переключил программу – там показывали какую-то далекую войну и как взрывают людей. Когда взрослые друг друга уничтожают, это еще терпимо, но те младенцы в одиноких колыбельках, которых некому проведать…
Ну вот, опять у нее слезы.
– Ну, что теперь?
– Так нечестно, – отвечает Эм. – Всё, с сегодняшнего дня я тебя не люблю!
Выясняется, что Джемма родила мальчика; родительница с чадом чувствуют себя прекрасно. Младенца назвали Джо (так обычно щенков кличут, хотя всякое бывает). Сегодня мы его увидим: все встречаются у нас по случаю дня рождения деда, и торжества решили совместить. Дело не в скаредности, напротив, задумка собрать все семейство отнюдь не плоха. Разве что меня там не будет: я в таких мероприятиях не участвую.
– Выйди, пожалуйста, к гостям, – увещевает мать. – Не расстраивай отца!
Да, такая у меня мамочка: защищает человека, который променял ее на ту, что помоложе и покрасивее, да еще и ребеночка себе завел, кукушонка в чужом гнездышке, который будет жиреть на отнятой у матери любви. Другая бы возненавидела. Почему же она до сих пор к нему неровно дышит? О, это я прекрасно понимаю. Ненавидеть моего отца попросту невозможно: он принадлежит к редкой породе порядочных людей. А что случается, когда такой человек нечаянно тебя обижает? Ты обижаешься, но не очень – ведь он не со зла.
Ну ладно, выхожу к гостям с нарочитым опозданием, и тут выясняется, что отец с Джеммой и их совместным отпрыском еще не появлялись, потому что Джо, видите ли, изволит спать. Потрясающе. Попробовал бы я выкинуть такой номер: «Я тут малость запоздал, народ. Вы уж меня простите. Мой сон куда важнее вашего сборища».
– «О Свет святой! О первенец Небес! Хвала тебе! Дерзну ль неосужденно…»*, – изрекает дед, воздев к небесам длани; прям-таки священник, дающий благословление. Дедуля любит дурачиться. Непременно ему нужно изъясняться цитатами: видно, своих слов не хватает.
* Джон Мильтон. «Потерянный рай» (пер. Арк. Штейнбсрга).
– С днем рождения, дедушка!
Понятия не имею, сколько ему сегодня исполнилось: семьдесят, восемьдесят или девяносто. Наливаю себе бокальчик «беллини». Это наш фирменный напиток для торжественных случаев: смесь сухой итальянской шипучки с персиковым соком в соотношении два к одному. Отличная штука.
Рецепт назвали в честь одного художника, нашего общего любимца. Дело в том, что мой дед как две капли воды похож на венецианского дожа, которого упомянутый живописец изобразил на портрете, – разве что дедуля обходится без дурацких шляп с завязками и горба на спине.
Тут ко мне подваливает мать с полной тарелкой закусок.
– Сынок, не пей на пустой желудок: гости будут с минуты на минуту.
Странный подспудный смысл.
А уж еды наложила… Крохотные сосиски на палочках, куриные палочки, морковные палочки, сырные палочки – и все страшно липкое. Едят это руками, чтобы потом не мыть ножи и вилки. Да, остались еще на свете прагматики, которые задумываются о подобных вещах.
Здесь и моя крестная, Шейла. Ждет, когда я к ней подойду.
– Доброго здоровьица, – говорю ей.
– А ты все растешь и растешь, – отвечает она. – Когда наконец остановишься?
– По-моему, уже остановился.
Каждый считает нужным заметить, что я высок, словно это предмет для гордости. Нет в том моей заслуги – скажем, Шейла сама по себе маленькая.
– Ты – вылитый автопортрет Сальватора Роза, – говорит она. – Привлекательный жгучий брюнет. Имей в виду, это комплимент.
– Да ну? Ладно.
– «Aut tace aut loquere meliora silentio». Либо молчи, либо превзойди молчание словом.
Она цитирует надпись на автопортрете Сальватора Роза. В нашем кругу такие фокусы в почете. Как бы вам понравилось оказаться на полотне старинного мастера? Забавно.
– Ладно, – отвечаю.
– Ну вот, видишь.
Тут уж нечего добавить.
– Ты рад, что у тебя появился маленький братик?
– Аж трепещу. Крестная поводит бровкой.
– Сам-то чем сейчас занимаешься?
– Да так. Всем подряд и ничем конкретно. Смотрит на меня с улыбкой, словно хочет сказать:
я никогда тебе слова поперек не скажу, будь ты хоть распоследним неудачником. Это называется безусловной любовью; взрослые считают, что молодежь в ней очень нуждается. Поверьте мне на слово: нас лучше оставить в покое, а вся эта безусловная ерунда – очередное надувательство. Никто не станет мазать твой бутерброд по доброте душевной, в каждой игре – свои правила. Я буду тебя любить, а ты взамен вырастешь здоровой сбалансированной личностью.
Шейла – ровесница моей матери, недавно ее назначили на какую-то престижную должность: она профессор и станет преподавать историю искусства в каком-то растаком университете. Это считается огромным достижением по жизни, все благоговеют и восхищаются, хотя она маленькая, бездетная и с фигурой как у мужика.
– Вот видишь, – сказала моя мать, когда до нее дошли слухи. – Иногда и хорошие люди прорываются наверх.
– Здорово, – отвечаю. – Повезло Шейле.
– Сынок, она тебя так любит, – говорит мать. – Черкнул бы ей, что ли, пару строк в честь такого случая.
Как только я родился, крестная избрала меня объектом для заботы: я тогда был слишком мал, и мое мнение в расчет не шло. В общем, смысл в том, что, когда она умрет, я унаследую ее деньги. Ничего не хочу сказать, спасибо, что она долгие годы осыпала меня подарками, но это была ее блажь, а не моя.
Причем я не единственный, кто придерживается такого мнения. Мать тоже ведет себя так, словно делает подруге огромное одолжение, разрешая любить своего отпрыска. Скорее всего мамуля и сама не отдает себе в этом отчета. Тут вся сложность в том, что делать карьеру они с Шейлой начинали вместе в Национальной галерее, с самых низов, даже поступили на работу в один год. Теперь наша Шейла – профессор, а мать до сих пор подбирает иллюстрации к книгам из-за того, что сделала перерыв на детей, то есть на нас с Кэт. Впрочем, ни одна из подруг так и не достигла желаемого, и теперь обе с моей помощью собираются наверстать упущенное.
Я хотел написать крестной письмо с поздравлениями, да руки не дошли.
– Вы молодец.
– Спасибо. У меня скоро первый цикл лекций. Ужас, все будут сидеть и думать: «Почему именно ей досталось это место?»
Ничего подобного. Все будут думать, что дадут на ужин.
Дедушка подводит ко мне добряка Эмиля. Добряк Эмиль – его старинный друг еще со времен Праги, или Будапешта, или Бухареста, где они жили и страдали, обретая истинную мудрость в кафетериях и лагерях для интернированных.
– А вот и молодое поколение! – говорит дедушка. – В наше время мы радовались, что живы, а уж быть юным считалось за неземное блаженство!
Шпилька в мой адрес, поскольку уж кто-кто, а я по части блаженства полный профан. И разве это моя вина? Дедулина юность пришлась на времена режима, когда нельзя было безнаказанно полистать «Плейбой» – и это до того, как у них начали расти волосы на лобке. А кому-то подают такие вещи на блюдечке с голубой каемочкой.
Тут ко мне обращается добряк Эмиль:
– Итак, юноша, чем собираетесь заняться?
– Честно сказать, пока не решил.
– И не торопись, парень! Перед тобой целый мир. Никаких обязательств, одни приключения.
Предполагается, что это повод для радости, а мне бы уйти в свою комнату да запереться от всех.
– Точно.
Старик всучивает мне свою ладонь и выводит в коридор. Припас для меня очередную порцию выстраданной мудрости.
– Знаешь, отец о тебе беспокоится.