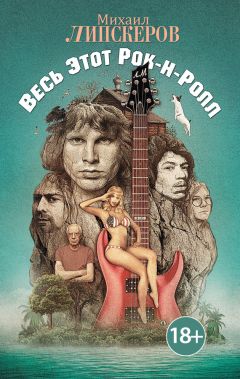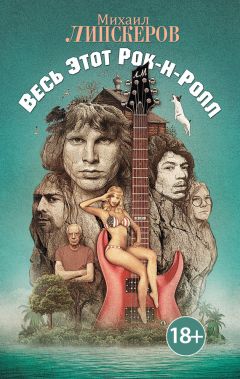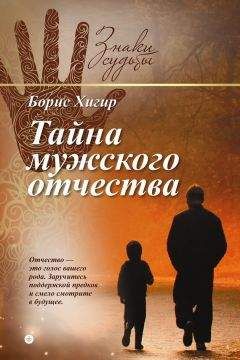Идем.
И вот три наших героя (два постоянных, а один приблудившийся по ходу повествования) неведомыми путями за ночь переместились с борта атомной подводной лодки «Владимиру Ильичу на память» на склон Авачинской сопки в компании почищенной воблы, бутылки спирта, ручья в пяти метрах от их лежбища и полной невозможности осуществить логическую последовательность спирт – вода – почищенная вобла. Как?! Керт на какое-то мгновение даже подумал, что в ответе на этот вопрос и заключается тот самый ответ на вопрос вопросов. Он даже сбегал в область дискурсивного мышления, в коем зачастую ответ заключается в правильно поставленном вопросе. Но по краткому размышлению (дискурсивному, разумеется) из побега возвратился. Потому что ответ находился не в плоскости мышления, а в области что ни на есть практики. После безумной идеи рыть канал от спирта к ручью, предложенной Михаилом Федоровичем, Герой-кавторанг предложил рыть от ручья к спирту. Но проблема-то как раз и состояла в том, как добраться до этого поганого (поганого в моральном смысле) ручья. Керт, лежа на спине в позе домашнего пса, ожидающего, чтобы ему почесали брюхо, предложил сползать к ручью со всеми припасами. Старшие, насколько это возможно, повернули к нему головы и, насколько это возможно, синхронно проговорили:
– Маресьев хренов…
Но тут, господа, как и следовало ожидать, потому что автор, то есть я, не зверь какой, чтобы обречь на страдания трех вполне приличных джентльменов, на склоне Авачинской сопки появилась волшебная палочка в виде неполноногого краба в мотоциклетном шлеме, который зачерпнул этим самым шлемом из ручья, плеснул в складную рюмку спирту и застыл в ожидании. Кому? После недолгого мучительного раздумья Герой прошептал:
– Пацану… Ему еще жить…
Михаил Федорович из последних сил кивнул, и вот уже два героя, обнявшись, как родные братья, проследили, как сначала в Керта провалился спирт, затем туда же шмыгнула вода, а уж потом последовало размеренное жевание воблы. Но тут же послышался невесть откуда взявшийся женский голос:
– Да что ж ты, мать твою, творишь?
Все, включая краба, вздрогнули. Неужели в угаре пьяном, в сигаретном дыму, по ресторанам они приволокли на Авачинскую сопку какую-то бабу, которую несправедливо отлучили от первого места в воссоединении тела, спирта, воды из ручья (точнее, из мотоциклетного шлема) и почищенной воблы? Неужели постигшее их патологическое опьянение вышибло из их мозгов присущее каждому русскому человеку уважение к женщине? Потрясение духовных основ в Замудонск-Камчатском…
Глянули направо.
Глянули налево.
Глянули на все четыре стороны.
А безоднопалый краб поднял специфически устроенные глаза наверх.
Бабы не было.
Нигде.
– Да что ж ты, твою мать, – уже без экивоков спросил женский голос, – творишь? Подлюка эдакая! Друганы твои черной мукой мучаются, воздуха свежего горлом своим не дышат…
– Ну вот, – обреченно вспомнили Михаил Федорович и кавторанг, – опять… – И эту обреченность усугубило то обстоятельство, что женский голос исходил из Керта.
А голос меж тем продолжал метать из чрева Керта гневные инвективы в адрес Керта, из открытого рта которого выпал непрожеванный кусочек воблы:
– Что ж ты, подлюка эдакая, сам похмелился, а товарищей своих, сучара, Илью, можно сказать, Муромца и Добрыню, лучше сказать, Федоровича, на черную муку обрек. Будто не тебе, пидору гнойному, раз и навсегда было сказано: «Нет уз святее товарищества»… А ну-ка, дерьмо собачье…
– Я протестую, – прервал инвалидный краб собачьим голосом, коий жутко напоминал голос трехногого пса, коий и принял облик краба, коего я придумал для освежения сюжета, для придания ему некоей свежести, коея… Ну да ладно. Не об том речь. А об том, что у краба-пса гневно забилось ретивое при сравнении его дерьма с бесчеловечностью Керта.
И тут кавторанг с Михаилом Федоровичем снова включили синхрон:
– Все, больше ни капли…
И невольно солгали.
Но спешу сообщить вам, господа, не их в этом вина. Потому что это была не рядовая белая горячка, примитивный делириум тременс, а была вещь погуще. Это впервые на жизненном пути заговорила совесть Керта. А то, что она вплетала в свою речь слова, не приличествующие интеллигенту в первом поколении, так о каких приличиях может идти речь, когда речь идет об узах, святее которых нет?
Так что через две минуты Кертова совесть довольно рыгнула, и все три героя лениво лежали на склоне Авачинской сопки и довольствовались. И тут Керт вспомнил о том, ради чего он гонялся за Михаилом Федоровичем по всей стране. А она… широка… моя родная… и я, господа, другой такой страны не знаю, где бы крабы разливали людям спирт в складной стаканчик и давали им запить водицей из ручья, дно которого устилала порода обсидиан, ножами из которого так любили вспарывать грудные клетки поклонники Кецалькоатля…
– Так, Михаил Федорович, вы обещали насчет вопроса ответить, в смысле, какой вопрос я вам должен задать, чтобы получить ответ…
Михаил Федорович задумался, а потом выпил из услужливо поданного крабом стаканчика. Или сначала выпил, а потом задумался?.. Не, конечно, сначала задумался, а потом выпил. Потому что если ты уже выпил, то дальше и думать нечего. И так хорошо. И где-то даже все понятно. И власть эта гребаная, и бабы не те пошли, и с кольцами Сатурна проблемы. И тут надо не задумываться, а окончательно решать. И все эти вопросы уже выпивший Михаил Федорович на пару с выпившим кавторангом готовы были решить, а кавторанг даже собрался шваркнуть по сатурновским кольцам парой торпед, но спускаться в порт из-за такой пустяковины, когда полбанки спирта еще есть, недостойно продолжателя дела Маринеску или Фисановича. С уклоном в сторону Фисановича. А Михаил Федорович отвечал Керту следующим образом:
– А скажи-ка, друг ты мой сердешный, друг ты мой желанный, а сколько годков тебе стукнуло?
Друг ответил искренний, друг ответил преданный:
– Двадцать семь мне, Михаил Федорович. – И добавил: – Стукнуло.
Михаил Федорович закатил глаза под густые брови, добывая оттуда воспоминания о своих двадцати семи годочках и пытаясь обрести в них ответ на вопрос вопросов, потому что если есть вопрос вопросов, то где-то рядышком, но не так чтобы совсем, а в умственной досягаемости есть и ответ ответов. И Михаил Федорович, выпростав глаза из-под густых бровей, сделал следующую предъяву:
– Кавторанг, ты на саксофоне играешь?
Боевой кавторанг, не мигнув глазом, ответил старым анекдотом:
– Не знаю, не пробовал…
Предъявив тем самым очередное доказательство мистической связи с Фисановичем, а никак не с Маринеску.
– Заиграешь, – сказал Михаил Федорович уверенно.
И действительно, складной стаканчик, только что опустевший в горло кавторанга, превратился в альт-саксофон фирмы Yanagisawa. И кавторанг, как будто всю жизнь не расставался с дудкой, вынул из нагрудного кармана мундира, превратившегося в клабмэновский клифт, трость, вставил в мундштук альта и выдул квадрат, что твой Пол Десмонд.
– Гляди-ка, – слегка удивился он, – клево…
И…
На сцене Замудонск-Сибирской филармонии сидел классический биг-бэнд из семнадцати рыл, среди которых были будущие легенды советского джаза. На фано лабал Гарри Брил, за ударными – Боб Журавски, взад и вперед таскал тромбон Бен РуБинглуз, за тенором потел коньяком Юл Десмонд… И… и… и…
Биг-бэнд играл знаменитейшую композицию Work song Кененбола-Эверли, а солировал на альту, догадайтесь… ну конечно же молодой кавторанг Алекс Билли-Гоат.
Гром аплодисментов, потом – тутти, вторичный гром… На сцену выходит кто? Хрен догадаетесь… А на сцену выходит Михаил Федорович и, улыбаясь во всю рожу, говорит:
– Дорогие друзья, уважаемые товарищи зрители, наш концерт окончен!
А за стенами филармонии стоял город Замудонск-Сибирский, известный всему Советскому Союзу химическим комбинатом, а эстрадному фрагменту Советского Союза – минетчицей Ритой Пантерой. При виде… ну, прямо как пантера! Ииии… нууууу… что вам сказать… нечего мне вам сказать… Как-то раз приехала в Зауральск пара хмырей-куплетистов. Один хмырь – средних лет, второй – преклонных. Тот, который средних, был тот еще поганец. Когда хмырь, который преклонных, будучи в трусах, гонял перед концертом рожу электробритвой «Харьков», хмырь средних запустил к нему в номер Риту. А потом накропал докладную в местком Москонцерта, что хмырь преклонных не смог выйти на концерт по причине искажения морального облика советского человека путем внебрачных половых сношений в смысле множественных орально-генитальных контактов. Тому влепили строгача по партийной линии, но без занесения. Чтобы не портить человеку биографию. Хотя какая, на хрен, биография в семьдесят два года. По себе знаю: что испорчено, то испорчено. Хуже уже не будет. Да и куда заносить, если он был беспартийный?