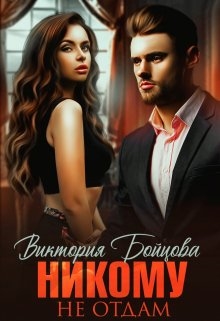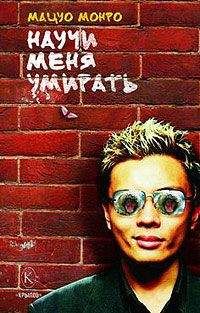углу уже с неделю, у нас может состояться разговор.
Я понял, о чем он говорит.
— Хорошо, значит, пока мы только расклеиваем рекламки. А зачем нам тогда мясо? Я точно не буду его есть!
— Только попробуй съесть хоть кусочек этого мяса! Нет, это на дегустацию. Но дегустатором будешь не ты.
Я снова понял, о чем он говорит, и мы начали крутить фарш. Я вспомнил, как однажды, еще вначале совместной жизни, мы с Лаврентием купили килограмм фарша на последние деньги. Решили, что это лучший вариант — его много и он сытный, а есть можно и с хлебом. На хлеб мелочь всегда найдется. Мы готовили этот фарш, хотя раньше не готовили ничего и ни разу, готовили разом весь килограмм — кинули на сковороду, посолили и накрыли крышкой. На всякий случай продержали на плите час, чтобы он приготовился наверняка.
А когда пришла пора дегустировать, оказалось, что Лаврентий бросил туда половину пачки соли.
Одну чайную ложку этого фарша приходилось запивать целым чайником воды и заедать целым батоном хлеба. От него слезы на глаза наворачивались. Смертельная доза соли — двести пятьдесят грамм, и мы потребляли ее регулярно. Есть нам было нечего, и мы ели то, что есть. Варили самые разные каши и как-то пытались наколдовать даже суп без мяса, который получился на вкус таким отвратительным, что этот фарш после него казался не таким ужасным. Мы изощрялись, как могли, давились, но ели этот фарш, и только он помог нам прожить всю последовавшую за его приготовлением неделю.
Потому что фарш стал самой большой бедой нашей жизни. Все остальное померкло перед этим монстром.
Потом, когда у нас все-таки появились деньги, мы ходили и искали еду, которая не вызывала призраков темного прошлого в ротовых полостях. То есть чего-то пресного и нейтрального. Мы приходили и спрашивали:
— У вас шаурма солёная?
— Солёная, как же!
— Ну тогда нам ее не надо!
Никогда ещё обилие вкусов не бывало таким драматичным.
А когда мы поняли, что есть хоть что-то нам все-таки придется, оказалось, что вкусов мы попросту больше не чувствуем. Мы думали, что это навсегда и языки наши останутся импотентами по гроб жизни, но буквально через пару дня все признаки пережитого исчезли. Только в нашей с Лаврентием памяти остались воспоминания о нем.
Мы с Ярославом крутили в мясорубке легкие, печени, срезанные куски мышц, желудки, почки, и я не мог думать об этом, как о простом мясе. Не могу сказать, что оно выглядело как-то особенно, но с каждым оборотом ручки мясорубки мне становилось все дурнее и дурнее, а Ярослав делал это воодушевленно. Я спросил у него:
— Ты думаешь, никто не заметит странного привкуса?
Ярослав без промедления ответил:
— У большинства людей нет вкуса — только фетиши.
— Не знаю, как это относится к жратве.
— Ты знаешь, какова на вкус человечина?
— Нет.
— Хочешь попробовать?
Ярослав заржал и зачерпнул рукой из таза с фаршем, протягивая кровавое месиво мне. Я непроизвольно дернулся и чуть не упал со стула.
— Убери это от меня!
— Вот и обычные люди не знают. Это будет нашим секретным ингредиентом.
Потом проснулся Лаврентий и я посадил его, еще сонного, на свое место. Он не сопротивлялся, а Ярослав только обрадовался смене напарника.
Я ушел на балкон и долго смотрел на просыпающийся город передо мной. Хотелось пива, но весь запас в холодильнике я уже выдул. Я не мог даже встать. Что уж там говорить о том, чтобы выйти из дома и идти за добавкой.
Не знаю, сколько я просидел так, не шевелясь. Я не спал и не бодрствовал, просто отходил от всего произошедшего. Солнце двигалось по небу, и когда оно начало светить мне в глаза, я все-таки встал и зашел в квартиру.
Пахло свежей выпечкой.
Когда я пришел на кухню, на плите стояло блюдо. Не знаю, где пропадали Ярослав и Лаврентий, но я осторожно взял один пирожок, пытаясь осознать, что он из себя представляет. Обычный, румяно-золотистый, с кривоватой косичкой на хребте.
Я смотрел на пирожок. В нем было зло.
— Пошёл нахер! И ты иди нахер!
— Я иди нахер? — возмутился Ярослав. — Вот так благодарность!
Я не знал, за что должен благодарить Ярослава.
Лаврентий молча смотрел на меня, хлопая глазами. Без страха или смущения, с любопытством. Так смотрят на зверушек. Например, на собак, когда они якобы улыбаются, а на самом деле это признак того, что животное устало и напугано. Человек думает, что собака улыбается, а собаки ведь обычно не улыбаются, поэтому такие вещи всегда вызывают восторг у публики. Отчаянный зов о помощи вызывает аплодисменты. Боль становится развлекательным шоу.
По этой причине я никогда не понимал балет: все знают, что балерины испытывают боль, когда танцуют, и это делает каждое па особенно ценным. В сути своей публика приходит посмотреть, как страдают представители ее же вида — это ли не ужасно? Даже животное в цирке испытывает больше сочувствия к своим собратьям.
На деле все люди стали каннибалами уже давно. Наши пирожки ничего не меняют.
Я стоял и смотрел на Ярослава с Лаврентием. Никто из них не понимал, в чем моя проблема, а я готов был заплакать или подраться с ними. Но вместо этого я решил послать их. Хоть плакать хотелось по-прежнему.
Моя проблема заключалась в том, что они выкинули меня из лодки. Меня, на имя которого зарегистрировано предприятие. Меня, который присутствовал при вырезке нашего первого мяса.
Меня, которому Ярослав когда-то сказал, что я ему нужен. Потому что я его друг.
Два дня они почти не появлялись дома. И вот я узнаю, что все это время они расклеивали листовки! Реализовывали наш план по внедрению бренда в массы! Даже договорились о проведении акций с бесплатными календарями в продуктовых магазинах.
И никто не сказал мне ни слова.
Только когда я заметил, что пирожков на кухне почти не осталось, я задал Ярославу вопрос. Он все мне рассказал. А потом я спросил у него еще — почему они не взяли меня с собой, на что получил ответ:
— Я решил, что с тебя хватит пока. После того, как ты пять часов на балконе просидел. Тебе бы отдохнуть, нервы пожалеть…
— Это ты, типа, такой заботливый? — истерично взвизгнул я. — Думаешь, можешь за меня решать, когда мне хватит?
Ярослав отшатнулся и посмотрел на меня с холодным любопытством. Истерики не находили отклика в его душе.
— Да ничего я