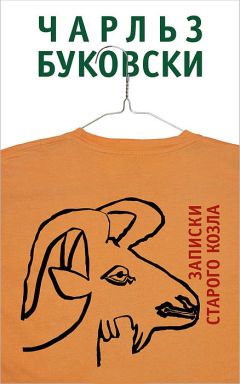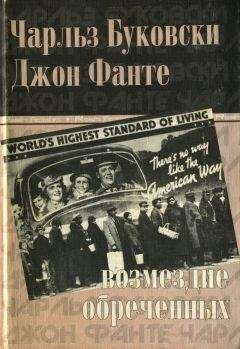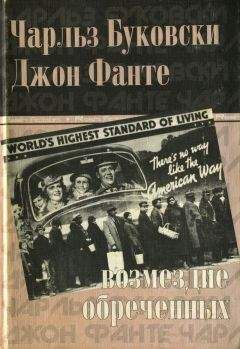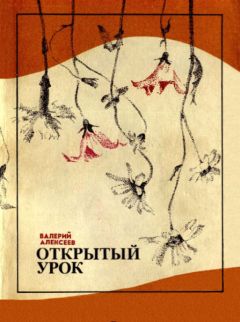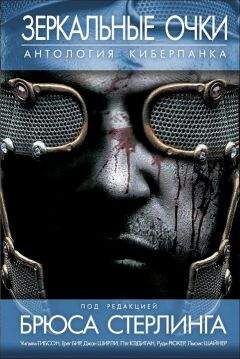М.
и еще:
дорогой бонго!
прости меня, уж такая я есть, попытайся хоть чуточку полюбить меня, сегодня привезли новый спринклер, старый совсем заржавел, посылаю стихотворение из «Поэтического Чикаго», я представляла себя, когда читала его. все, надо бежать, дети возвращаются домой.
люби меня,
мегги.
вложенное стихотворение аккуратно перепечатано, ни одной ошибки, ни одной помарки, слова. выбиты через два интервала с одинаковым нажимом, в одном и том же ритме, с любовью… кошмарное стихотворение, от него веяло мелкотравчатой тепленькой трагедией, в духе XVIII столетия — в дурном духе.
я все равно не отвечаю, вместо этого отправляюсь на работу — мусорщиком, меня знают в округе как облупленного, особенно мое начальство, мне это нравится, они смотрят сквозь пальцы на мое пьянство и не могут отличить Т. С. Элиота от Лоуренса Аравийского[70], два или три дня я прихожу на работу вдрызг пьяный и все равно справляюсь.
мой телефон обычно стоит на автоответчике, это не означает, что я сноб, нет. просто в большинстве случаев меня совсем не интересует, что люди хотят мне сказать и как они собираются потратить мое время, но однажды ночью, когда я пытался укрепиться в мысли, что мне придется отправиться на работу, зазвонил телефон, так как все равно через пару минут мне предстояло отчаливать, я решил, что ничего серьезного мне уже не грозит, и поднял трубку.
— бонго?
— а?
— это… мегги…
— о, привет, мегги.
— послушай, я совсем не хотела навязываться… просто у меня крышу сорвало, наверное…
— да ладно, с кем не бывает.
— просто не презирай мои письма…
— ну, мегги, тут ведь как обстоит дело, на самом деле я совсем не презираю твои письма, они же такие приличные, что…
— ох, я так рада!
она оборвала меня, а я собирался сказать, мол, ее письма такие приличные, что наводят на меня ужас этой пылесосной скучищей… но она не дослушала.
— я действительно рада!
— ладно, — согласился я.
— ты не прислал ни одного своего стихотворения для нашего класса в институте.
— я постараюсь подобрать что-нибудь подходящее.
— я уверена, что подойдет любое.
— да, иногда и палач хорош в качестве аргумента…
— ты о чем?
— забудь.
— бонго, ты больше не пишешь? помнится, раньше твои стихи появлялись в каждом номере «Печальной мечтательности». Лили говорила мне, что ты уже несколько лет ничего не присылал, значит, забыл своих неудачников?
— я этих ублюдков никогда не забуду.
— приколист! так ты больше никому не рассылаешь свои работы?
— ну разве что в «Эвергрин».
— и они принимают?
— пару раз, но, знаешь, «Эвергрин» совсем не маленький журнальчик, прошу это помнить, и Лили расскажи, скажи ей, что все — я покинул баррикады.
— ох, бонго, я как только прочитала первое твое стихотворение, сразу поняла, что ты избранный, у меня до сих пор хранится твой первый сборник «Христос крадется по задворкам», эх, бонго, бонго…
чтобы свернуть разговор, я сказал, что мне пора идти собирать мусор, а сам подумал почему-то, кому захочется отведать разглаженного чернослива? у него, наверное, отвратный вкус, как у высохшего дерьма, ведь единственной прелестью чернослива как раз и являются его морщины — прохладные, мягкие морщины, и я представил себе, как скользкая косточка выпрыгивает изо рта прямо на тарелку, словно живая.
повесив трубку, я откупорил себе бутылочку пивка и решил, что сегодня работа с мусором мне не по силам, как хорошо было сидеть на стуле, прикладываться к бутылке и посылать все к едрене фене, я вспоминал еще одну свою настойчивую корреспондентку, которая утверждала, что переспала с Эзрой Паундом в Сент-Лиз[71]. я еле отшил ее после долгой переписки, истерично заявив, что тоже умею писать и что «Кантос», на мой взгляд, унылый отстой.
оглядев комнату, я приметил, что повсюду валяются письма от мегги. одно лежало на полу, другое рядом с печатной машинкой, я встал, подошел и поднял его:
дорогой бонго!
все мои стихи возвращаются обратно, ну что ж, если в журналах не понимают, что такое настоящая поэзия, им же хуже, время от времени я перечитываю твой первый сборник «Христос крадется по задворкам» и все последующие, они дают мне уверенность в том, что я смогу выдержать всю эту ужасную глупость, окружающую меня, пора, скоро дети будут дома.
люби меня,
мегги.
P. S. мой муж издевается надо мной: «бонго давно не пишет, что случилось с нашим бонго?»
я опростал бутылку и швырнул ее в мусорное ведро, мне представилось, как муж мегги трижды в неделю залезает на нее, а ее волосы рассыпаются по подушке веером, так, кажется, любят изъясняться эротические писатели, она воображает, что ее оседлал ее бонго, и он думает, что он и есть бонго.
— ох, бонго! бонго! — стонет она.
— кончаю, мамочка, — шипит он.
я откупорил еще пивка и подошел к окну, заканчивался еще один бесплодный и бессмысленный лос-анджелесский день, и я был жив, в здравом уме, хотя с выхода первого сборника моих стихов прошло уже много времени, забылись и бунты в Уоттсе. столько всего псу под хвост. Джон Брайн ждал от меня материала для своей газетенки, можно было бы рассказать о мегги, но ведь эта история еще не закончилась, завтра утром я найду ее продолжение в своем почтовом ящике, мне вдруг представилось, как бы я разрулил эту ситуацию в кино:
— слышь, малютка джон, есть одна бабенка, она меня просто достала, врубаешься, о чем я? ты знаешь, что надо делать, только смотри не облажайся, продери ее своей четырнадцатидюймовой елдой, чтобы она отвалила от меня, найди ее. она мается в своих четырех стенах, и глаза ее полны пылесосной тоски, ее комната завалена поэтическими журналами, она несчастна и думает, что жизнь просто распяла ее, но на самом деле она и не знает, что такое жизнь, дай ей почувствовать вкус настоящей жизни, всади в нее свой четырнадцатидюймовый снаряд.
— ладно уж.
— и еще, малютка джон…
— ну?
— не отвлекайся по пути.
— да ладно уж.
я отошел от окна, плюхнулся на диван и присосался к пиву. Наверное, надо как следует нажраться, сесть в самолет и заявиться к ней в лохмотьях, пьяным вдрызг, позвякивая значками на изодранной футболке — «ИМПИЧМЕНТ ДЖОНСОНУ!», «СТОП ВОЙНЕ!», «ЭКСГУМИРОВАТЬ ТОМА МИКСА!»[72].
но это не сработает, остается только сидеть и ждать, на гуманитарный грант рассчитывать не приходится, в ящике будет лишь одно:
дорогой бонго,
бла бла бла бла бла бла бла бла. надо мыть посуду, скоро деты возвращаются из школы, бла бла бла бла. люби меня,
мегги.
интересно, случалось ли подобное с Бальзаком, или с Шекспиром, или с Сервантесом, надеюсь, что нет. самые вредные человеческие изобретения — это почтовый ящик, почтальон и писатель писем, у меня на полке стоит синяя банка из-под кофе, набитая письмами, на которые я никогда не отвечу, у меня в чулане громоздится картонная коробка, доверху забитая безответными посланиями, хочу спросить: остается ли у этих людей время на то, чтобы поесть, выпить, поебаться, выспаться, подзаработать денег, помыться, просраться, сделать маникюр? и лидером в обеих этих свалках — мегги со своим: люби меня, люби меня, люби меня.
нет, только четырнадцатидюймовый хуина способен изменить ситуацию в ту или иную сторону, хотя с тем, что и так при мне, уже огромная проблема.
в те достославные дни в моей квартире постоянно кто-то ошивался, причем даже в мое отсутствие, обычно я и не знал, кто эти люди, к кому они пришли и уйдут ли когда-нибудь, простые смертные, правда, далеко не святоши, короче, вечеринка не прекращалась, удача не покидала нас. пара долларов с мелочью — и комната снова наполнялась галдежом и музыкой, свет в моих окнах горел до шести-семи утра.
и вот однажды темной ночью я очнулся в своей кровати совершенно пьяный, но при этом с ясной головой, понимаете, неожиданная ясность среди полного мрака, абсолютная тщета и всепоглощающая печаль, я приподнялся на одном локте и вгляделся во мрак, казалось, все ушли, остались только пустые винные бутылки с отблесками лунного света на боках, грязное и жестокое предрассветное ожидание, в котором я обнаружил человеческую фигуру рядом с собой прямо под боком, какая-то пизда решила остаться со мной — это была любовь, любовь и храбрость, блядь, кто же мог решиться остаться со мной?! любой, кто решился на это, уже заслужил прощение всех смертных грехов, я должен был немедленно ВОЗНАГРАДИТЬ эту милосердную душу, эту хрупкую нежную лань за проявленное мужество и храбрость остаться в постели вместе со мной.
а разве могло быть вознаграждение лучше, чем выебать ее в корму?
до этого я имел дело со странной породой женщин, которые никак не хотели запускать меня себе под хвост, а так как я никогда этого не пробовал, осознание недоступности стало разъедать мой мозг, я уже ни о чем другом не мог говорить, особенно когда был пьян, любой женщине я сразу же признавался: «мне бы хотелось поиметь вас в зад и, если честно, с вашей мамой я бы тоже хотел познакомиться с этой точки зрения, ну а уж если быть предельно откровенным, то я бы с большим удовольствием выебал в попу и вашу дочь», ответ был всегда одним и тем же: «нет-нет, этого мы вам не позволим!» они были готовы на все — что угодно, как угодно, но только не в жопу, наверное, еще время не пришло, или погода не способствовала, или просто шутки теории вероятности, потому что намного позже все стало с точностью до наоборот: женщины сами приставали ко мне с одним и тем же вопросом: «Буковски, почему ты не интересуешься моим дымоходом? у меня такая большая, круглая и мягкая печка», а я отвечал: «это точно, дорогуша, но мне не хочется».