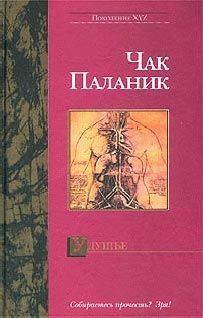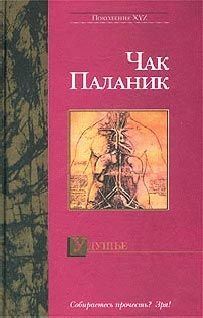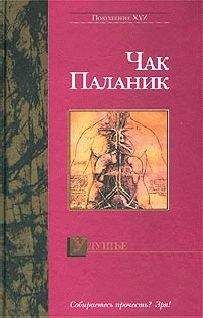— Я тебя сделала…
Шепчет:
— Сукин сын, я тебя сделала…
Напяливаю обратно штаны, хватаю куртку. Плевки из белых солдатиков висят по всей кровати, по шторам, по обоям, а Гвен по-прежнему лежит на месте, тяжело дыша, вибратор косо торчит из неё на полпути наружу. Секундой позже он выскальзывает и шлёпается на пол, как толстая скользкая рыбина. Тогда-то Гвен и открывает глаза. Начинает привставать на локте, ещё не замечая нанесённый ущерб.
Я уже наполовину вылез в окно, когда вспоминаю:
— Да, между прочим… — говорю. — Пудель, — и позади меня впервые слышу её настоящий крик.
Летом 1692-го в Плимуте, штат Массачусетс, мальчик-подросток был обвинён в том, что огулял кобылу, корову, двух коз, пять овец, двух телят и индюка. Это реальная история из книжек. В соответствии с библейскими законами Левита, после раскаяния мальчик был вынужден смотреть, как каждое животное забивают. Затем он был убит, а его тело свалено в кучу с мёртвыми животными и зарыто в яму без креста.
Это случилось до появления встреч терапевтического общения для сексоголиков.
Тому подростку, пиши он свой четвёртый шаг, пришлось бы, пожалуй, расписать целый коровник.
Спрашиваю:
— Вопросы есть?
Четвероклассники молча смотрят на меня. Девочка во втором ряду спрашивает:
— А как это — огулял?
Говорю — спросите учителя.
Каждые полчаса мне приходится обучать очередное сборище четвероклассников какому-нибудь дерьму, которое никто учить не хочет: например, как разводить огонь. Как смастерить куклу с головой из яблока. Как делать чернила из чёрных орешков. Как будто такое поможет кому-то из них поступить в нормальный колледж.
Помимо уродования бедных цыплят эти четвероклассники приваливают сюда затем, чтобы притащить какой-нибудь микроб. Нет никакой тайны в том, почему Дэнни постоянно пускает сопли и кашляет. Головные вши, глисты, хламидия, стригущий лишай — на полном серьёзе, все эти экскурсионные детишки — крошечные всадники апокалипсиса.
Вместо полезного первопроходческого отстоя, рассказываю им, что их уличная игра в «колечко вокруг розочки» основана на эпидемии бубонной чумы в 1665-м. Чёрная Смерть оставляла на людях твёрдые набухшие чёрные пятна, которые те звали «чумными розами», — или бубонами, — окружёнными бледным кольцом. Отсюда слово «бубонный». Заражённых запирали в собственных домах и оставляли умирать. Спустя шесть месяцев, сотни тысяч людей были похоронены в огромных общих могилах.
А «кармашек, полный цветочков» — то самое, что лондонцы носили с собой, чтобы не чуять запаха трупов.
Чтобы сложить костёр, берёшь и сваливаешь в кучу немного палок и сухой травы. Высекаешь искру из кремня. Работаешь мехами. Можешь не воображать ни секунды, будто весь процесс разведения огня заставит их глаза засверкать. Искра никого не впечатляет. Ребятишки горбятся в первом ряду, сгрудившись над своими маленькими видеоиграми. Детишки зевают прямо тебе в лицо. Все хихикают и щипают друг друга, выкатывая глаза на меня в бриджах и грязной рубахе.
Взамен я сообщаю им, что в 1672-м Чёрная Чума поразила Неаполь, что в Италии, похоронив примерно четыреста тысяч человек.
В 1711-м, в Священной Римской империи, Чёрная Чума убила пятьсот тысяч человек. В 1781-м миллионы умерли по всему миру от гриппа. В 1792-м ещё одна эпидемия похоронила восемьсот тысяч человек в Египте. В 1793-м москиты занесли жёлтую лихорадку в Филадельфию, где она убила тысячи.
Один ребёнок шепчет позади:
— Это хуже, чем рулетка.
Другие ребятишки распаковывают завтраки и заглядывают в бутерброды.
За окном в колодках раком стоит Дэнни. В этот раз — просто по привычке. Городской совет объявил, что он будет изгнан сразу же после завтрака. А колодки — именно то место, где он чувствует себя в наибольшей безопасности от себя самого. Ничего не заперто и даже не прикрыто — но он стоит, согнувшись и пристроив руки и шею на те места, где они пробыли месяцами.
Когда они шли из текстильной, один малыш потыкал палочкой Дэнни в нос, а потом пытался сунуть палку ему в рот. Другие детишки тёрли его лысую голову на счастье.
Разведение огня отнимает только минут пятнадцать, поэтому потом я обязан показывать каждой своре детишек большие горшки для стряпни, мётлы из веток, грелки для кровати и прочий отстой.
Дети всегда кажутся выше в комнатушке с потолком в шесть футов. Ребёнок позади говорит:
— Нам снова дали этот сраный яичный салат.
Здесь, в восемнадцатом веке, я сижу у очага большого открытого камина, снабжённого традиционными сувенирами комнаты пыток: большими железными крюками, кочергами, решётками, железками для клеймения. Полыхает мой большой костёр. Сейчас отличный момент для того, чтобы вынуть железные щипцы из углей и прикинуться, что изучаешь их изрытые ямками, раскалённые добела кончики. Все детишки делают шаг назад.
А я спрашиваю их — эй, ребятишки, может кто-нибудь из вас рассказать мне, как люди в восемнадцатом веке замучивали голых маленьких мальчиков до смерти?
Такое всегда привлекает их внимание.
Никто не поднимает рук.
Продолжая изучать щипцы, повторяю:
— Кто-нибудь?
Всё равно нет рук.
— Серьёзно, — говорю, начиная щёлкать щипцами, разжимая их и сжимая. — Вашему учителю стоило бы рассказать вам, что в былые времена маленьких мальчиков частенько убивали.
Их учительница ждёт снаружи. Вышло так, что пару часов назад, пока её класс чесал шерсть, мы с этой учительницей перевели немного спермы в коптильне, и она стопудово считала, что это обернётся какой-то романтикой, но секундочку. Меня, пока зарывался лицом в её замечательную упругую попку, вообще поражало, что может прочесть между строк женщина, если ты случайно ляпнешь «Я тебя люблю».
В десяти случаях из десяти парень имеет в виду — «Я такое люблю».
Напяливаешь пижонскую полотняную рубаху, галстук и какие-нибудь бриджи, — и бабы со всего мира хотят посидеть у тебя на роже. Когда вы двое делите концы твоего толстенного здорового поршняры, ты же просто тип с обложки какого-нибудь древнего романтического романа. Рассказываю ей:
— О крошка, вонзай мою плоть во свою. О да, вонзай меня, крошка.
Грязные словечки восемнадцатого века.
Эту их учительницу зовут вроде Аманда, Элисон, или Эми. Что-то на гласную.
Главное — не забывай себя спрашивать: «Как бы не поступил Иисус?»
Теперь, перед её классом, славными чёрными руками запихиваю щипцы обратно в огонь, потом маню детишек парой чёрных пальцев, международный знак языка жестов для «подойдите поближе».
Ребятишки позади подталкивают стоящих спереди. Те, что спереди, смотрят по сторонам, и один малыш зовёт:
— Мисс Лэйси?
Тень в окне говорит о том, что мисс Лэйси наблюдает, но в тот миг, когда смотрю на неё, она уклоняется из поля зрения.
Показываю детишкам — «ближе». Старая рифма насчёт «Джорджи Порджи», рассказываю им, на самом деле про короля Англии Георга IV, которому вечно было мало.
— Мало чего? — спрашивает какой-то малыш.
А я отвечаю:
— Спросите учителя.
Мисс Лэйси продолжает подглядывать.
Говорю:
— Нравится вам огонь, который у меня здесь? — и киваю на пламя. — Так вот, всем постоянно нужно чистить печные трубы, вот только трубы внутри очень узкие, и проходят всегда поверху, поэтому обычно люди заставляли маленьких мальчиков забираться туда и выскабливать внутренности.
А поскольку там было очень тесно, рассказываю им, то мальчики застревали, если на них хоть что-то было надето.
— Поэтому, совсем как Санта-Клаус, — продолжаю. — Они карабкались вверх по трубе… — говорю, доставая из огня горячую кочергу. — Голыми.
Плюю на красный конец кочерги, и плевок громко шипит в тишине комнаты.
— А знаете, как они умирали? — спрашиваю. — Кто-нибудь?
Никто не поднимает рук.
Спрашиваю:
— Знаете, что такое мошонка?
Никто не отвечает «да» и даже не кивает, поэтому говорю им:
— Спросите мисс Лэйси.
В наше особое утро в коптильной, мисс Лэйси полоскала мой поршень в хорошей порции слюней во рту. Потом мы сосались, крепко потели и проводили жидкостный обмен, и она отклонилась назад, полюбоваться на меня. В тусклом дымном свете повсюду вокруг нас висели всякие большие фуфельные пластмассовые окорока. Она всё мокла, крепко оседлав мою руку и вздыхая между каждой парой слов. Вытирает рот и спрашивает — предохраняюсь ли я.
— Клёво, — говорю ей. — Сейчас же 1734-й, помнишь? Пятьдесят процентов детей умирали при родах.
Она сдувает с лица прядь сырых волос и говорит:
— Я не об этом.
Лижу её посередине груди, вверх по горлу, и потом охватываю ртом её ухо. Продолжая гонять её на промокших пальцах, спрашиваю:
— Ну, какие же есть у тебя злые недуги, о которых мне следует знать?
Она тащит меня сзади в стороны, слюнявит палец во рту и говорит:
— Я верю в самопредохранение.