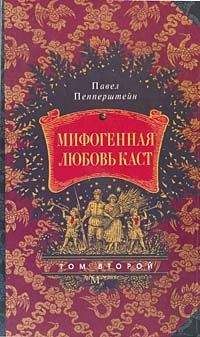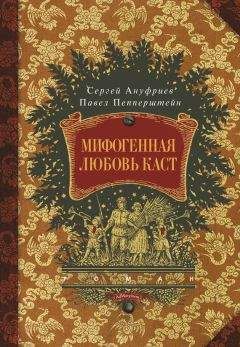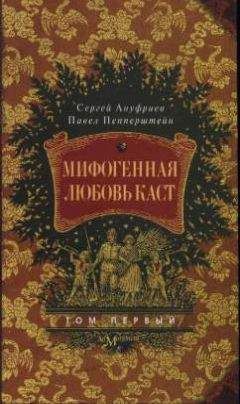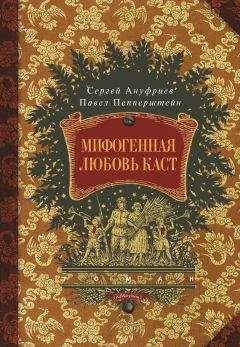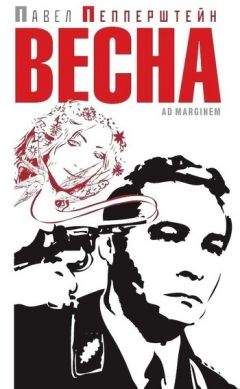В конце коридора показался Радный, прыгающий на корточках. Он стал стучать лбом в дверь купе номер 14.
— Кто там? Войдите, — кокетливо прозвучало два женских голоска.
Радный впрыгнул в темное купе, громко скрипя черепами, которые уже снова появились поверх его генеральского мундира. За ним метнулся Джерри. Изнутри купе послышались вскрики двух женщин, вскоре перешедшие в стоны и вздохи двух половых актов, совершаемых одновременно.
Дунаев снова очутился в купе номер 27, где теперь сидел одинокий Бессмертный и читал газету. Здесь же находился и Поручик, но он спал.
Парторг из последних сил вскарабкался на верхнюю полку и тут же стал засыпать, закрывшись локтем от яркого света лампы. Засыпая, он еще успел снова спросить Бессмертного:
— А куда едем-то?
— В Ташкент. На совещание, — ответил Бессмертный и перевернул газетный лист.
Дунаеву снилось… Сколько раз прозвучали уже эти слова? Сколько раз они еще прозвучат? Пока длится жизнь, длятся и сновидения. Сны — это комментарии к бытию, и они не случайно сопутствуют отдыху. Комментируя, мы восстанавливаем свои силы.
На этот раз Дунаеву снилось (видимо, под впечатлением рассказа Бессмертного о заклинании «золотое яйцо»), что он находится на вершине некоего узкого и высокого дома, в маленькой чердачной комнатке, ясной и прибранной, без единого лишнего предмета. Он стоит посредине этой комнаты, глядя в светлый, выскобленный, деревянный пол. В руке он держит золотое яйцо. Оно горячее. И становится все горячее. Вскоре его уже невозможно удержать в руке. Дунаев разжал руку и выронил яйцо. При падении яйцо легко пробило пол, как если бы он был бумажный, затем пробило дол нижнего этажа, затем следующий. Дунаев смотрел вниз, сквозь анфиладу овальных отверстий (каждое — со слегка обугленными краями) на удаляющуюся золотую искру. Он понимал, что яйцо уходит в Преисподнюю. Охваченный любопытством, он всматривался в овальную дыру и вскоре увидел, как золотая искра — где-то очень далеко внизу — канула в какую-то жидкую тьму, чем-то похожую на нефть. Оттуда, из этой нефти, доносился гул — неразборчивый, смутный, как если бы в глубине перемещалась огромная толпа или же работали тяжеловесные машины. Нефть шевелилась, бурлила, шла пузырями и жирными волнами. Внезапно золотая искра снова появилась и стала стремительно увеличиваться. Яйцо возвращалось. Пройдя все этажи, яйцо выскочило из отверстия в полу и снова оказалось в руке у Дунаева. Оно было все еще горячим, но становилось прохладнее с каждой минутой. Скоро оно стало уже нормальной комнатной температуры. Гул, идущий снизу, затих. Наступила полная тишина. Дунаев глянул вниз, сквозь «дыры», и включил «приближение». Нефть внизу больше не бурлила — она тихо уходила ниже, сквозь щели, освобождая пространства, которые раньше были затоплены ею. Открылись в основном технические помещения, наполненные какими-то агрегатами. Все машины стояли, недействующие, почерневшие.
Дунаев опустился взглядом еще на один этаж ниже — сначала ничего не удавалось различить, потому что нефть стояла до потолка, Но затем она стала спадать, уходя еще ниже, — постепенно обнажилась роскошная гостиная, наполненная буржуазными трупами: раскиданные по коврам и креслам мужчины во фраках и женщины в длинных платьях. Нефть, уходя, оставляла их чистыми, незапятнанными. Они стали оживать. Кто-то встал, принялся разглядывать картину на стене… Другие вяло шевелились, словно пробуждаясь от летаргического сна…
Затем сновидения сделались невнятны. Когда все снова прояснилось, Дунаев увидел комнатку Машеньки в своей голове. Девочка, как всегда, сладко спала в своей кроватке.
Странность состояла в том — и это оскорбило и потрясло Дунаева, — что вся «комнатка» Машеньки, все стены, потолок, пол — все было исписано грубыми, разъезжающимися надписями, как пишут на заборах, на стенах домов, в подъездах… Надписи, сделанные разными почерками, выведенные углем, мелом или выцарапанные ножом, были самыми обыкновенные, типа
Ленка + Петька = Любовь
(и тут же было, конечно, приписано «любовь до гроба, дураки оба»);
По Берлину!;
Коля — мудак;
сало;
Светка из четырнадцатой берет в рот;
марафет — говно;
хуй не лимонад — соси не поперхнись;
мусора здесь не пройдут;
Спартак: в семь сходняк у Толяна;
в двадцатой живут уроды;
Привет с салавков;
жопа;
я все изведал, но такой суки как Поля…;
Женька, хорош прятаться, выходи вечером во двор — поговорим;
сухарь — пидарас;
здесь живут фраера;
Сергеева Лена сосет у чемберлена;
Нюра и кирпич = ебля;
кокаин и пизда — вот что мне нужно;
здесь были Матрос и Бердин;
Гитлер — малафейщик;
Мирза ты зазнался, помни про перо;
по четвергам Лена дает всем;
Курск;
Таньке четырнадцать, а сосет без удовольствия;
нет, сосу по любви;
коклюш;
кто здесь ссыт и срет, тому смерть…
С изумлением читал парторг все эти надписи, разглядывая соответствующие изображения, недоумевая, как они могли появиться здесь, в этом сокровенном, недоступном ни для кого пространстве. Он чуть было не разрыдался от такого святотатства, но тут вспомнил, что это — лишь сон. Он посмотрел на лицо спящей Машеньки. Оно было, как всегда, возвышенным и блаженным, хотя подъездные и заборные надписи переползали со стен даже на белоснежный пододеяльник ее кровати — они виднелись на подушке, и даже на щеке спящей девочки было написано углем «Мирза — дурак».
Парторг подумал, что раз это сон, значит, все здесь зависит от него. Он сконцентрировался, собрался с силами и начал уничтожать надписи, стирая их одной лишь силой воли, постепенно очищая комнатку от этого неожиданного загрязнения.
Надписи, а также непристойные рисунки исчезали неохотно, медленно. Но все же исчезали.
Он не успел закончить эту работу, когда Машенька вдруг произнесла, не открывая глаз, сонным шепотом:
Кошки, ежи и созвездья
Ночью выходят из нор.
Лают собаки. Стонут поленья.
Ходит по комнатам вор.
Вор подбирается к сейфу.
Он подбирает ключи.
Теплые, пенные шлейфы
Катер оставит в ночи.
Есть в этом мире вокзалы.
Знаешь ли, знаешь про них?
В этих прокуренных залах
Много окурков чужих.
Где-то висят разговоры,
Где-то проходят пальто.
Нам, засыпающим, нужен лишь шорох,
Теплое нужно ничто.
После этого Дунаева словно бы накрыли огромной нагретой ушанкой. Стало темно, тепло, душновато, и сон (уже без сновидений) мчался куда-то вперед в темноте вместе с поездом, качаясь, набирая скорость и изредка разражаясь долгим, стонущим, сиплым гудком, в котором было что-то вопросительное, как будто поезд и сон спрашивали о чем-то у ночи, у пассажиров, у спящих, но никто не отвечал им. И только тонкий сквознячок, протянувшийся от окна, свежий, щемящий сердце, еще подпитывал холодом эту бегущую в пространстве комнатку, до невозможности согретую усилиями подобострастного истопника и веселой сухостью его березовых дровишек.
Дунаев спал, и во сне становилось ему все жарче, духота сгущалась, он метался и пытался поймать ртом и руками ускользающий сквознячок, и эфемерное холодное и живое тело этого сквознячка играло с ним, извивалось, отбегало куда-то, и возвращалось, и с девичьим смешком било по губам, и уже ему казалось, что это она, и парторг изумленно шептал: «Мария… Зачем?», уже не понимая, к кому обращается — к Синей или к Машеньке. Но сквознячок таял, теплел, и все реже вспыхивали в нем синие сверкающие глаза, все реже проскакивал в нем снежный запах и запах замерзающих яблок. Яблоки на снегу. Медленно замерзают. Ты их согрей слезами. Я уже не могу. Не могу.
Дунаев за время войны научился щедрости: он больше не подсчитывал время, отданное сну.
Проснулся он от жары, которая стала невыносимой.
— Мы в Ташкенте, — сухо сказал Бессмертный. И вышел из поезда.
За ним последовали Дунаев и трое «свирепых интеллигентов» — все сильно осоловевшие от поездного беспутства. Поручика с ними не было. Генеральские униформы исчезли, теперь они были одеты в свое: скромное, мятое.
Парторг и раньше бывал в Ташкенте, поэтому вид вокзала и города ничем не удивил его. Зима и война не ощущались здесь, разве что везде стояли патрули и проверяли документы, поэтому члены диверсионной группы, по знаку Бессмертного, сделались невидимыми. Так и пошли по городу. Собирались случиться душные сумерки. На одной из сонных улочек, вдоль которой тянулись белые глинобитные стены, Бессмертный постучал в калитку. Открыл обычного вида восточный человек в тюбетейке и молча с вежливой восточной улыбкой и поклонами проводил их сквозь сад в квадратный внутренний дворик.
— Али, — коротко сказал Бессмертный, указывая на этого человека. Тот еще раз поклонился, чуть ли не до земли, и тут же куда-то ушел.