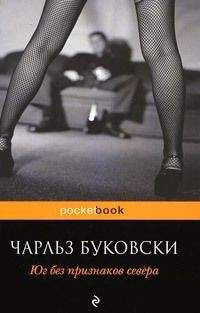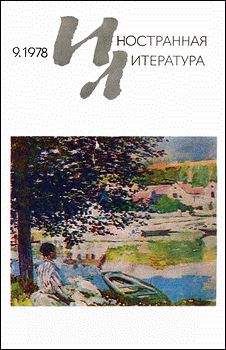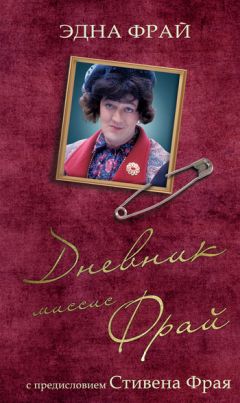– Вы не хотели бы завтра приобщиться святых тайн? – спросил он.
– Нет, спасибо, Отец, я – не очень хороший католик. Я в церкви не был уже 20 лет.
– А вас крестили католиком?
– Да.
– Тогда вы до сих пор католик. Вы просто католик-бродяга.
Прямо как в кино – он вокруг да около не ходит, режет правду-матку, как Кэгни, или это Пэт О’Брайен белый воротничок носил? Все мои фильмы были устаревшими:
последний раз я был в кино на Пропавшем Выходном. Поп дал мне брошюрку.
– Прочтите ее, – сказал он.
МОЛИТВЕННИК, гласила брошюрка. Составлен для пользования в больницах и лечебницах.
Я стал читать.
О Вечная и вовеки благословенная Троица, Отец, Сын и Дух Святой, со всеми ангелами и святыми, поклоняюсь вам.
Царица и Мать моя, вверяю себя тебе всецело; и чтоб доказать тебе мою преданность, посвящаю тебе сего дня очи мои, уши мои, уста мои, сердце мое, все существо мое без раздумий.
Сердце Христа трепещущее, смилуйся над умирающими.
Господи, распростертый ниц, поклоняюсь тебе…
Приидите, благословенные Духи, и восславьте со мною Господа Милостивого, кто так щедр к такой недостойной твари.
Грехи мои, Иисусе, прогневили тебя… грехи мои покарали тебя, и увенчали голову твою терном, и гвоздями прибили тебя к кресту. Признаюсь: достоин я лишь наказания.
Я встал и попробовал посрать. Прошло уже три дня. Ничего. Опять лишь сгусток крови, да швы в проходе трещат. У Херба было включено какое-то комедийное шоу.
– Сегодня вечером в программе будет участвовать Бэтмен. Хочу на Бэтмена поглядеть!
– Вот как? – И я снова взобрался на кровать.
Особенно я сожалею о грехах своих – о нетерпении и гневливости, о грехах уныния и гордыни.
Появился Бэтмен. Все участники программы, кажется, ужасно обрадовались.
– Это Бэтмен! – сказал Херб.
– Хорошо, – ответил я. – Бэтмен. Сладкое Сердце Марии, будь мне спасителем.
– Он умеет петь! Смотри, он петь может!
Бэтмен снял свой костюм летучей мыши и переоделся в цивильное. Очень обыкновенный молодой человек с каким-то пустым лицом. Он запел. Песня все не кончалась и не кончалась, а Бэтмен, казалось, очень гордился своим пением почему-то.
– Он может петь! – сказал Херб.
Господь мой милостивый, что я и кто ты, чтоб посмел я приблизиться к тебе?
Я лишь бедная, жалкая, грешная тварь, абсолютно недостойная предстать перед тобой.
Я повернулся спиной к телевизору и попытался уснуть. Херб включал его очень громко. У меня было немного ваты, и я засунул ее в уши, но помогло это мало. Я никогда не просрусь, думал я, никогда больше не смогу срать, тем более, если будет работать эта дрянь. От нее у меня кишки сжимались, сжимались… В это раз я точно чокнусь!
Господи, Боже мой, с этого дня я принимаю твою руку с радостью и покорностью, какую бы смерть ты не пожелал бы ниспослать мне, со всеми ее скорбями, болями и страданием. (Пленарное отпущение грехов один раз в день при обычных условиях.)
Наконец, в полвторого ночи я не вытерпел. Я слушал его с семи утра. Говно мое застопорилось Навечно. Я почувствовал, что за эти восемнадцать с половиной часов я заплатил за Распятие. Мне удалось повернуться.
– Херб! Ради Бога, мужик! Я сейчас рехнусь! У меня сейчас резьбу сорвет! Херб!
ПОЩАДИ! Я НЕ ПЕРЕВАРИВАЮ ТЕЛЕВИЗОР! Я ТЕРПЕТЬ НЕ МОГУ ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ РАСУ! Херб!
Херб!
Тот спал, сидя.
– Ты, пиздосос вонючий, – сказал я.
– Че такое? че??
– А НЕ ВЫКЛЮЧИШЬ ЛИ ТЫ ЭТУ ДРЯНЬ?
– Вы… ключить? а-а, конечно-конечно… че ж ты раньше не сказал, парнишка?
12.
Херб тоже храпел. И разговаривал во сне. Я заснул примерно в полчетвертого. В 4.15 меня разбудил звук – как будто по коридору тащили стол. Вдруг верхний свет зажегся: надо мной стояла здоровенная негритянка с планшетом. Господи, как же уродлива и глупа на вид была эта дева, к чертям Мартина Лютера Кинга и расовое равенство! Она легко могла бы изметелить меня до полусмерти. Может, неплохая мысль? Может, пришло время Последних Обрядов? Может, мне конец?
– Слушай, крошка, – сказал я, – будь добра, объясни мне, что происходит? Это что – ебаный конец?
– Вы Генри Чинаски?
– Боюсь, что так.
– Вам пора на Причастие.
– Нет, постой-ка! Его перемкнуло. Я сказал ему: Никакого Причастия.
– О, – ответила она, снова задернула шторки и выключила свет. Я услышал, как стол, или что еще там было, потащили дальше по коридору. Папа будет мной очень недоволен. Стол грохотал просто дьявольски. Я слышал, как недужные и умирающие просыпались, кашляли, задавали вопросы воздуху, звонили медсестрам.
– Что это было, парнишка? – спросил Херб.
– Что что было?
– Весь этот шум и свет?
– Это Крутой Черный Ангел Бэтмена готовил Тело Христа.
– Что?
– Спи.
13.
На следующее утро пришел мой врач, заглянул мне в жопу и сказал, что я могу выписываться домой.
– Но, малшик мой, не стойт естить верхом, я?
– Я. А как насчет какой-нибудь горячей пизденки?
– Што?
– Полового сношения?
– О, найн, найн! Фы смошет фосопнофит фсе нормалны тейстфия черес шесть-фосем нетель.
Он вышел, а я стал одеваться. Телевизор меня больше не раздражал. Кто-то произнес с экрана:
– Интересно, мои спагетти уже сварились? – Потом сунулся физиономией в кастрюлю, а когда снова поднял голову, вся она была облеплена спагетти. Херб заржал. Я потряс его за руку.
– Прощай, малыш, – сказал я.
– Приятно было, – ответил он.
– Ага, – сказал я.
Я уже совсем собрался уходить, когда это случилось. Я рванул к горшку. Кровь и говно. Говно и кровь. Больно так, что я разговаривал со стенками.
– Ууу, мама, грязные ебучие ублюдки, ох блядь блядь, о спермоглоты сраные, о небеса хуесосные говнодрючные, хватит! Блядь, блядь блядь, ЙОУ!
Наконец, все закончилось. Я почистился, надел марлевую повязку, натянул штаны и подошел к своей кровати, взял дорожную сумку.
– Прощай, Херб, малыш.
– Прощай, парнишка.
Угадали. Я помчался туда снова.
– Ах вы грязные кошкоебы, еб вашу мать! Ууууууу, блядьблядьблядьБЛЯДЬ!
Я вышел и немножко посидел. Третий позыв был слабее, и после него я почувствовал, что готов. Я спустился и подписал им счетов на целое состояние.
Прочесть я ничего не мог. Мне вызвали такси, и я встал у въезда для скорой помощи. У меня с собой была маленькая зитц-ванночка. То есть, горшок, куда срешь, наполнив его горячей водой. Снаружи стояли три оклахомца, два мужика и баба. Голоса у них были громкими, южными, и они выглядели так, словно с ними никогда ничего не происходило – даже зубы не болели. Мою задницу начало крутить и резать. Я попробовал присесть, но это была ошибка. С ними стоял маленький мальчик. Он подбежал и попытался схватить мой горшок. Стал тянуть его на себя.
– Нет, сволочь, нет, – шипел я ему. Мальчик почти его выдернул. Он был сильнее меня, но я держал крепче.
О Иисусе, вручаю тебе родителей своих, родню, благодетелей, учителей и друзей.
Вознагради их по-особому за всю их заботу и за горести, которые я на них навлек.
– Ты, задрота маленькая! Отпусти горшок! – сказал я ему.
– Донни! Оставь дядю в покое! – заверещала ему женщина.
Донни убежал. Один из мужиков посмотрел на меня.
– Здрасьте! – сказал он.
– Привет, – ответил я.
Такси выглядело прекрасно.
– Чинаски?
– Да. Поехали. – Я сел вперед вместе со своим горшком. Как бы пристроился на одной ягодице. Дал ему адрес. Потом добавил:
– Слушайте, если я заору, съезжайте на обочину возле щита, заправки, чего угодно. Но перестаньте ехать. Возможно, придется посрать.
– Ладно.
Мы поехали. Улицы тоже выглядели хорошо. Полдень. Я по-прежнему был жив.
– Послушайте, – спросил я его, – а где тут хороший бордель? Где я могу подснять хороший, чистый, недорогой кусочек жопки?
– Я ничего про такие вещи не знаю.
– ДА ЛАДНО, ЛАДНО! – заорал я. – Я что, на фараона похож? На стукача? Можешь мне баки не заколачивать, шеф!
– Нет, я не шучу. Я ничего про такие вещи не знаю. Я езжу днем. Может, ночной таксист вас и просветил бы.
– Ладно, я тебе верю. Сворачивай сюда.
Старая хибара смотрелась славно меж всех этих многоэтажных апартаментов. Мой “Плимут‘57” стоял весь покрытый птичьим пометом и с полуспущенными шинами. Мне же нужна была только горячая ванна. Горячая ванна. Кипяток мне на бедную задницу. Покой. Старые Беговые Формы. Счета за газ и свет. Письма от одиноких женщин, которых не трахнешь – слишком далеко живут. Воды. Горячей воды. Покоя. И я размазываюсь по стенам, заползаю в окопчик собственной богом проклятой души. Я дал ему хорошие чаевые и медленно пошел по проезду. Дверь была открыта. Широко.
Кто-то по чему-то колотил молотком. С постели сдернуты простыни. Боже мой, меня обчистили! Меня выселили!