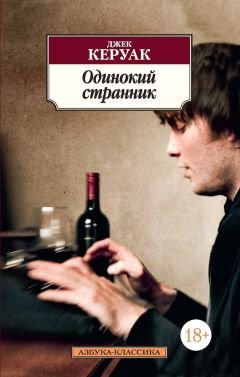Что за нескончаемые человеческие характеры проходили мимо моего столика кафе: старые французские дамы, малайские девушки, школьники, мальчики-блондины в колледж, высокие молодые брюнетки на занятия по юриспруденции, хиповатые прыщавые секретарши, обереченные очкастые писари, обереченные шарфастые разносчики молока в бутылках, коблы в длинных синих лабораторных халатах, хмурящиеся старшекурсники, шагающие в шинелях, как в Бостоне, задрипанные мелкие лягаши (в синих кепи), роются в карманах, хорошенькие блондинки с хвостами волос, на высоких каблуках с блокнотами на молнии, очкастые мотоциклисты с моторами, притороченными к задам их циклов, очковые хомбурги, бродящие, читая «Le Parisien» и дыша мятой, курчавоглавые мулаты с длинными сигаретами во ртах, старухи, несущие молочные бидоны и авоськи, кирные У. К. Филдзы, плюющие в канаву и, руки-в-брюки, идущие к своим лавкам проводить там еще один день, юная француженка, на вид китаянка, лет двенадцати со щелью меж зубов чуть ли не в слезах (хмурясь, и с синяком на щиколотке, в руке связка учебников, хорошенькая и серьезная, как негритянские девчонки в Гренич-Виллидж), управленец в шляпе пирожком бежит и зрелищно успевает себе на автобус, и вместе с ним испаряется, усатые волосатые итальянские юноши входят в бар на утреннюю дозу вина, громадные неуклюжие банкиры Бурсы в дорогих костюмах выискивают в ладонях гроши на газету (сталкиваясь с женщинами на автобусной остановке), серьезные мыслители с трубками и свертками, славная рыжая в темных очках трусит, пип-пип, на каблуках к автобусу, и официантка плещет мытьевой водой в канаву. —
Восхитительные брюнетки в тугих юбках. Школьницы с длинными мальчишескими копенками волос плямкают губами над книгами и суетливо запоминают уроки (ожидая встречи с молодым Марселем Прустом в парке после школы), прелестные юные девушки семнадцати лет идут низкокаблучной уверенной поступью в длинных красных пальто в центр Парижа. – Явный ост-индец, насвистывая, ведет собаку на поводке. – Серьезные молодые влюбленные, мальчик обручил девочку за плечи. – Статуя Дантона показывает в никуда, парижский хеповый кошак в темных очках, блеклоусый, ждет рядом. – Маленький мальчик в костюмчике и черном беретике, с зажиточным отцом идет к утренним радостям.
На следующий день я прогулялся по Бульвару Сен-Жермен на весеннем ветру, свернул у церкви St-Thomas-d’Aquin[23] и увидел огромную мрачную картину на стене, изображавшую воина, упавшего с коня, в сердце его колет враг, на которого он смотрит в упор своими грустными галльскими понимающими глазами, а одну руку простер, как бы говоря, «Вот моя жизнь» (был в ней этот ужас Делакруа). Я помедитировал на эту картину на ярких красочных Шанз-Элизэ и посмотрел, как мимо ходят множества. Угрюмо миновал кинотеатр, рекламирующий «Войну и мир», где два гренадера с русскими саблями и соболями на накидках болтали дружески и с французским нахрапом с двумя американскими туристками.
Долгие прогулки по бульварам с фляжкой коньяка. – Всякую ночь другая комната, каждый день четыре часа на поиски ночлега, пешком с полным мешком. – В трущобных кварталах Парижа многочисленные несвежие дамы холодно отвечали «complet»[24], когда я осведомлялся о нетопленных комнатах с тараканами в сером парижском сумраке. – Я шел и спешил, сердито толкая людей вдоль Сены. – В маленьких кафе ел стейки с вином в порядке компенсации, медленно жуя.
Полдень, в кафе возле Les Halles, луковый суп, pâté de maison[25] с хлебом, за четвертачок. – Днем, девушки в меховых шубках вдоль Бульвара Сен-Дени, надушенные – «Monsieur?»
«Еще бы…»
Наконец я нашел себе комнату, где мог оставаться все три дня, гнетущая грязная холодная лачуга, содержимая двумя турецкими сутенерами, но добрейшей души парнягами, что я пока встречал в Париже. Здесь, открыв окно безотрадным дождям апреля, я спал свои лучшие сны и набирался сил для ежедневных двадцатимильных походов по Королеве Городов.
Однако назавтра я был внезапно безотчетно счастлив, сидя в парке перед церковью Trinité[26] возле вокзала Сен-Лазар среди детей, а затем вошел внутрь и увидел мать, молившуюся с такой самоотдачей, что напугала ее сына. – Мгновенье спустя я увидел крохотную мамашу с босоногим сыном, ростом уже с нее.
Я походил вокруг, на Пигаль начало слякотить, как вдруг солнце вырвалось на Рошешуа, и я открыл Монмартр. – Теперь я знал, где буду жить, если когда-нибудь вернусь в Париж. – Карусели для детворы, восхитительные рынки, прилавки с hors d’oeuvres[27], лавки с винными бочками, кафе у подножья величественной белой базилики Sacré-Coeur[28], очереди женщин и детей, ожидающих горячего немецкого хвороста, молодой нормандский сидр внутри. – Красивые девушки возвращаются домой из приходской школы. – Тут надо жениться и семью заводить, узкие счастливые улочки полны детей, и они тащат длинные булки хлеба. – За четвертачок я купил с лотка огромный кус сыра «грюйер», затем громадный шмат заливного мяса, вкусного, как сам порок, затем в баре спокойный стакан портвейна, а потом пошел смотреть на церковь высоко на утесе, глядящую на мокрые от дождя крыши Парижа. —
La Basilique du Sacré-Coeur de Jésus благолепна, может, по-своему одна из красивейших церквей (если у вас душа рококо, как у меня): кроваво-красные кресты в витражных окнах, куда западное солнце посылает золотые столбы на витиеватые византийские синевы напротив, представляющие иные ризницы – натуральные кровавые бани в синем море – и все бедные печальные таблички, отмечающие строительство церкви после осады Бисмарком.
Вниз по склону под дождем, я зашел в великолепный ресторан на рю де Клиньянкур и съел тот ни с чем не сравнимый французский суп-пюре и целую трапезу с корзинкой французского хлеба и моим вином, и тонконогими бокалами, о которых мечтал. – Глядя через весь ресторан на робкие бедра новобрачной девушки, у которой большой медовомесячный ужин с ее молодым мужем-фермером, ни та ни другой ничего не говорили. – Им теперь полвека вот такого в какой-нибудь провинциальной кухне или столовой. – Солнце вновь прорвалось, и с набитым животом я побродил меж тиров и каруселей Монмартра и увидел молодую мать, обнимавшую свою маленькую дочурку с куклой, качавшую ее на коленках, и смеясь, и обнимая ее, потому что им так весело было на карусельной лошадке, и я заметил в ее глазах божественную любовь Достоевского (а наверху, на горе над Монмартром, Он раскрывал Свои объятья).
Теперь чувствуя себя чудесно, я прогулялся и снял наличку по дорожному аккредитиву на Gare du Nord[29], и прошел всю дорогу пешком, веселый и довольный, по Бульвару де Мажента к громадной Пляс де ла Репюблик и дальше вниз, иногда срезая путь по боковым улочкам. – Уже ночь, вниз по Бульвару дю Тампль и Авеню Вольтер (заглядывая в окна неведомых бретонских ресторанчиков) до Бульвара Бомарше, где мне показалось, что вижу мрачную тюрьму Бастилию, но я даже не знал, что ее снесли в 1789-м, и спросил у одного парня, «Où est la vielle prison de la Révolution?»[30], а он расхохотался и сообщил мне, что несколько камней от нее осталось в станции подземки. – Затем в подземку: поразительно чистые художественные рекламы, вообразите рекламу вина в Америке, на которой показана голенькая десятилетняя девочка в дурацком колпачке, свернувшаяся вокруг бутылки вина. – И поразительная карта, что зажигается и показывает тебе маршрут разноцветными пуговичками, когда нажимаешь на кнопку станции назначения. – Вообразите Нью-Йоркскую МСП[31]. И чистенькие поезда, бродяга на лавке в чистой сюрреалистической атмосфере (не сравнить с остановкой на 14-й улице по линии Кэнарси).
Парижские «воронки» пролетали мимо, распевая дии да, дии да. —
На следующий день я прогулялся, осматривая книжные магазины, и зашел в Библиотеку Бенджамина Фрэнклина, на месте Старого «Кафе Вольтер» (лицом к «Комеди Франсэз»), где бухали все от Вольтера до Гогена и Скотта Фицджералда, а теперь здесь тусня чопорных американских библиотекарей безо всяких выражений на лицах. – Затем прошелся до Пантеона и поел восхитительного горохового супу и маленький стейк в отменном переполненном ресторанчике, набитом студентами и вегетарианской юридической профессурой. – Потом посидел в скверике на Пляс Поль-Пэнлеве и мечтательно понаблюдал за изгибающимся рядом прекрасных розоватых тюльпанов, прямых и покачивавших толстых лохматых воробьев, красивых коротко стриженных мадемуазелей, гулявших мимо. Не то чтоб французские девушки были красивы, все дело в их хорошеньких ротиках и том, как прелестно они говорят по-французски (ротики их розово напучиваются), как они усовершенствовали короткую стрижку и как они медленно прохаживаются, с великой изощренностью, и, разумеется, в их шикарной манере одеваться и раздеваться.
Париж, наконец-то удар в сердце.