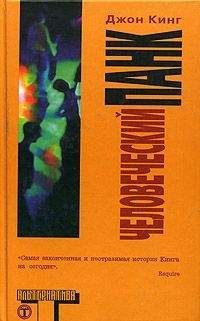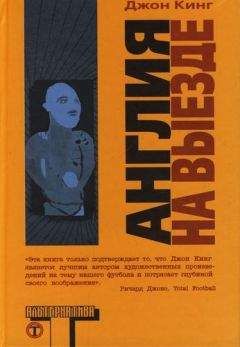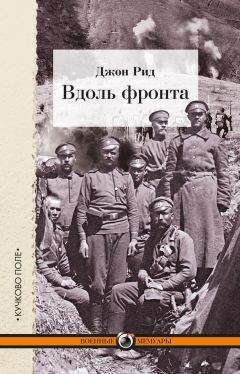Как я и думал, он оказался выпендрёжником, распаковал и высыпал её за погрузочной площадкой во время обеденного перерыва, и мудро кивал головой, что, мол, дурь — высший сорт. Если мы добирались до Сохо пораньше, мы ходили в секс-шопы, смотрели, на что женщины тратят свои последние пенни, там всегда мелкими стайками бродили красивые тётки, выбирали вибраторы, на нас даже не смотрели, по большей части, взрослые крашеные цыпочки, пытающиеся подперчить свою жизнь, наверно, одна-две нимфоманки, и видели большую тётку, разглядывающую десятидюймовый дилдо, достаточно, чтобы на всю жизнь отбить себе охоту к сексу. Панкушки одеваются в винил и резину, и я никогда не видел их в секс-шопах. Зато в клубах они всегда сидели у дверей, в кожаных мини-юбках, с мультяшно-фиолетовыми волосами, разглядывали бизнесменов и туристов, которые и ходят в клубы за сексом. А мы смотрели стриптиз, дешёвые подмостки, где женщины раздеваются, демонстрируют растяжки, или кабинки, где платишь десятку, и пару минут в тесноте смотришь на отличную цыпочку в верховой одежде, а Полковник Боуги порет её по заднице; и всё время был бедный тупой сельский парень, который нагибался, как лошадь, которой не дали овса, подглядывал через щели в амбаре, его хозяйка нагнулась вперёд, животом на кипу сена, а старый больной судья с кнутом задавал ей то наказание, которому хотел бы подвергнуть каждого хулигана, прошедшего через суд. Мы в этих кабинках часто прикалывались, сидели там только что не на шее друг у друга, десятка скоро кончится, и мы просим у цыгана быстрее обслужить леди из поместья, его так жалко, работать в саду за гроши, разбрасывать навоз и копать канавы под проливным дождём, собирать вишни и червивые яблоки. Но он ни разу не послушал нас, смешно наверно было смотреть на эту толпу в кабинке. Эти машины нас наёбывали, и мы сдавались, выходили злые, понимали, что нас кинули, хотели, чтобы копатель картошки одержал верх над аристократией. Мы ненавидели судью в твидовой куртке, грязного старикашку, который получал удовольствие, хлестая чью-нибудь задницу, и мы шли в паб с картинами в голове, заказывали четыре-пять пинт пива или сидра, пялились на девчонок. Не думаю, что мы им нравились, чаще всего они нас знать не желали, думали, мы толпа грязных фанатов, когда мы были молодыми. Мы со Смайлзом, наверняка, ненавидели модную и стильную одежду, ходили в старых шмотках: мартена и Хэррингтоны, балахоны и толстовки. Годами мы не покупали джинсы. У меня была «Кромби», я купил её на рынке и носил зимой. Это скиновская куртка, но я не был скином, просто стили пересеклись. Дэйв был чуток умнее, одевался стильно, Крис — нормально, без выпендрёжа, и что-то тогда происходило, что-то витало в воздухе, я всегда смотрел в будущее, даже теперь, когда я лежу пластом в темноте, еду в Сибирь, мне интересно, что там, впереди, ничего не могу поделать, напеваю под нос «You’re Wondering Now» Special AKA, слышу в ночи саксофон, выключают свет.
Снаружи светло и свежо, но я отхожу от окна, на всякий случай, слушаюсь товарища проводницу и скрываюсь из вида, когда поезд подползает к советской границе. Быстрее было бы выйти и пойти пешком, но только если ты не против пули в голову. Земля покрыта пучками травы, две длинные полосы колючей проволоки отделяют китайцев от советских пограничников, две волосатые свиньи бродят по обезлюдевшей территории. Деревянные вышки китайской армии наклоняются на ветру, солдаты смотрят, пальцы на курке. Русская матрона говорит, они нервничают. Она хорошо говорит по-английски, активно жестикулирует, длинные пальцы с короткими, грубыми ногтями. Она много работает, кипятит воду для термосов, которые раздаёт, у себя в купе заваривает чай, смотрит за пассажирами, а мы оставляем Китай позади, с самого начала — под наблюдением.
Поезд останавливается, застрял меж двумя сверхдержавами, время еле тянется, окончательно замирает.
Мы сидим полчаса, только звуки дыхания раздаются в вагоне, скрип тормозов разносится по вагонам. Мы, наконец, прибываем на советскую сторону, поезд снова останавливается. Ничего не происходит. Мы на окраине маленького города, и ещё через час прибывают эти кадры и начинают бродить по вагонам. Они в джинсах и кожанках, волосы зализаны назад, как у рокеров. Вон расселись по грузовым тележкам и разглядывают нас в окна. Матрона говорит, что они из КГБ, а по вагонам ходит милиция, проверяет бумаги. Говорит, мол, надеется, мы не пытаемся контрабандой ввезти валюту. Милиционеры с серьёзными лицами входят в наше купе, идут прямиком к хиппи. Обыскивают его сумки. Да, обыскивать поезд они будут долго. Я думаю про рубли в трусах, пытаюсь выглядеть невинно, но им интереснее волосатик в костюме Мао. Когда доходит до пересечения границы, запаха наркотиков и всяких хитростей, хорошо, когда сосед-хиппи отвлекает на себя внимание. Не верь хиппи. Интересно, когда они закончат обыск, позовут ли они агента Андрея Жополаза, специалиста по резиновым перчаткам, который попросит хиппи нагнуться, достать руками до пяток, и будет трогать за всякое в поисках заныканной травы.
Наконец милиция закончила проверку, и поезд трогается вперёд, снова останавливается. Бригада рабочих собирается менять колёса на советский стандарт ширины, и нам приказывают выйти. Вагоны стоят расцепленные, поднятые в воздух. Иду по платформе, в сторону кассы, где застываю в изумлении. Нельзя говорить про застывшее время, потому что здесь оно движется назад. Это путешествие во времени, не говоря уже про пространство. Белые люди, большинство — блондины, прямо как из тридцатых. Я думал, там будут азиаты, китайцы, монголы и пара-тройка казаков. Я мог бы оказаться в Саксонии или даже в Слау перед войной. До меня доходило не меньше минуты, что белая раса захватила верхнюю половину глобуса, что часы на стене движутся с другой скоростью, и тиканье — самый громкий шум в комнате.
Размышляю про пропаганду Холодной Войны, на которой я вырос, атомные бомбы и четырёхминутные предупреждения, радиация, бесконечный мрак и тьма, заряженные боеголовки скоро полетят в нашу сторону. Вижу лица, именно они больше всего боятся советской власти, это у них общее с китайцами. Они знают, как себя вести, ничего не показывать. Две кожаные куртки сидят смотрят, один расчёсывает волосы. Похоже на Миссисипи 1930-х, но стоит выйти, и тут же понимаешь, что ты в Советском Союзе, на стене напротив — рисунок советского солдата, автомат в руках, жёлтая звезда в красном небе. Рядом — ниша с маленькой статуей, на латуни вырезаны имена. Некоторое время брожу по дороге, но идти здесь некуда. Только пространство раздвигается вокруг меня, продолжение Маньчжурии и, наверно до самого Северного Полюса. Там концлагеря, где погибли миллионы человек, их запытали за преступления, которых они никогда не совершали. Если бы никто не написал об этом, мы бы так и не узнали. С Китаем так же. Лично я ничего такого там не видел.
Колёса поменяли, мы отправляемся вглубь Советского Союза, пятидневная поездка через Сибирь в Москву. Общаюсь с немцем, пока хиппи роется в рюкзаке, тяжело дышит, что-то бормочет. В последние месяцы я привык жить один, не как в те три года, когда я работал в Гонконге. Хорошее было время по-своему. Представился шанс уехать работать за границу, и я им воспользовался, снял комнату на восьмом этаже Дворца Чунцина, гостиницей владел старый тамил по имени Сэмми. Он большую часть времени сидел на диване перед входом, курил сигареты одну за другой, как будто ждал, что вот-вот что-нибудь начнётся. Я неплохо узнал его, лысый человечек с гладкой кожей, он был старше, чем выглядел. У меня в комнате хватало места для кровати и кресла, и я остался там на все три года. Комната стоила чертовски дёшево, и когда я через пару дней не выехал, он ещё снизил цену. Первый год я жил на чемоданах, пока Сэмми не забыл, что он жадный, и не купил комод с ящиками, фанерную фигню, оклеенную бумагой. Если я уезжал, Сэмми разрешал мне оставлять там вещи на пару недель. Больше мне ничего было не нужно. И я всегда сбивал цену.
Больше всего мне нравился вентилятор, новая модель, он гонял воздух по комнате, мило обдувал меня в моей персональной духовке. Из окна не было вида, только спальни и кухня гостиницы напротив, но в окна попадал свет, и я был счастлив. Я был свободен уехать в любой день, если бы захотел. Я не собирался пускать корни, жил одним днём. Если не работал, ходил бухать или копил на билет до Манилы, где я пёкся на пляже и ел свежие фрукты. Чунцин был смертельной ловушкой, разваливающийся клоповник, грязный, умирающий, все ждали пожара, а в нём могли погибнуть сотни людей. Но это было хорошее место, полно народа, тут принимали всех: китайцы и индийцы, европейцы-бродяги и американцы — дезертиры из Вьетнама, древний немец, Сэмми считал, что он бывший эсэсовец. Как будто здесь кончается мир, и путешественники валяются на матрасах, каждый этаж — лабиринт дешёвых гостиниц и крытых рынков, везде продаётся жгучая, грошовая хавка. Индийцы и пакистанцы, бангладешцы и шри-ланканцы готовят карри, и я питался китайской и вьетнамской пищей каждый день. Ночами я работал в баре, разносил напитки смешанной группе британских, австралийских и новозеландских алкашей. Среди них были редкостные пиздюки, в Слау я таких не видел, но, по большей части — нормальные мужики, которые увидели возможность заняться чем-нибудь новым и ухватились за неё, один-два образованных товарища, не принявшие стереотипной заносчивости и вырвавшиеся из классовой системы, прожившие последние двадцать лет, путешествуя туда-сюда по Дальнему Востоку.