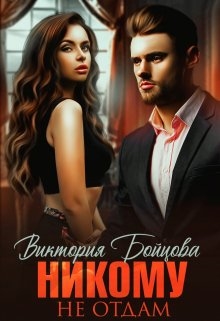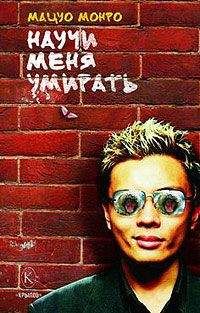я очень хотел разубедиться — больше всего на свете я хотел оказаться пессимистом и надумать нехорошее про Сагира несправедливо.
А потом я открыл дверь.
***
Он… он…
Я не буду рассказывать, что он делал. Скажу только, что блевать на непригодные человеческие внутренности в ведре для отходов — очень сомнительное удовольствие. Там еще валялись грязные бинты, тряпки, комки волос, огрызок яблока и обертка с этикеткой наших пирожков. Последнее, очевидно, в обеденное время подбросил Сагир, когда доел пирожок. Может, ему Ярослав от большой щедрости подарил бесплатно.
О том, что пирожками мог питаться и сам Ярослав, я старался не думать. Не хотел знать, что живу с каннибалом.
Когда я жил в студенческом общежитии, местные придумали себе развлечение: они брали плату за проход. Придумали это, разумеется, четверокурсники. Местные старожилы, которым надоело учиться и которые чувствовали себя хозяевами всего вокруг. Они разбились на две смены и поочередно дежурили в самых проходных местах. Самое выгодное положение, разумеется, было на посте у кухни: еда нужна всем, поэтому пересекаться с ними приходилось постоянно, каждый день. Они играли на самом основном человеческом инстинкте.
В итоге студенты приучились покидать общежитие через пожарные лестницы и окна, а еду хранить у себя в комнатах. На кухню никто не заходил и после того, как те предприниматели выпустились. С кухни съехали даже тараканы.
Они брали плату единственной ценной для студентов валютой: едой. Я был там. Я знаю ценность пищи.
По сути, все в человеческой жизни завязано на еде. Мы объедаем друг друга. Не последовательно ли для нас становиться частью пищевой цепочки после своей смерти?
Я не смотрел на Сагира. После увиденного на трупы смотреть приятнее, чем на него.
— А от чего они все умирают? — спросил я, чтобы он, не дай бог, не начал разговор первым.
— Это все у патологоанатома в кабинете. На пальцах вот номера, а у него записано, какой номер о чем.
— А через мясо можно чем-то заразиться?
— Конечно. Да чем угодно, мне кажется.
— Тебе кажется, но наверняка ты не знаешь?
— Я знаю только, что сам пока жив и здоров. Больше я ничего не знаю.
И снова он напомнил о том, что я увидел, когда вошел. Конечно, он рисковал подхватить сразу все болячки, передающиеся половым путем. Рвотный порыв удалось сдержать — а может, блевать уже было нечем.
Получается, фарш, в который мы все перемешиваем, может оказаться целиком и полностью заражен какой-нибудь жалкой спидозной печенью. Но почему меня вообще должно это волновать?
— Я тут собрал для вас, — вовремя подсуетился Сагир и открыл дверь холодильника.
Через минуту он выкатил оттуда целую садовую тачку. Она на треть была заполнена мясом. Мясо лежало просто так, без пакетов, прям в садовой тачке.
Я уставился на тачку, и мне снова пришлось подавлять рвотный позыв.
— Это меньше, чем мы договаривались, — извинился Сагир и кивнул на тело, с которого недавно слез. — Я вон ту оставил напоследок. Ты ж через час должен был прийти, я бы как раз управился. А теперь подожди.
Так что я сел ждать. Все услышанное я воспринял с каким-то буддистским равнодушием. Иначе, наверно, сбежал бы оттуда в ужасе.
А Сагир принялся вскрывать кожные покровы своей любовницы. Он делал это с каким-то воодушевлением, как будто все время, пока мы с ним общались, ему не терпелось снова наконец прикоснуться к ней — неважно, с какой целью. Как будто между сексом и вскрытием для него не было никакой разницы.
Я отвернулся. Решил, что смотреть на лицо Сагира, пока он ковыряется в ее брюшной полости, мне противопоказано.
Конечно, я его осуждал. Но мое чувство только прикрывалось осуждением, а на деле являлось презрением: ничего отвратительнее в жизни не видел. Я имел полное право его презирать, но вряд ли имел хоть какое-то право сказать ему об этом — едва ли деятельность нашей шайки менее отвратна, чем его.
К тому же, Сагир едва ли причинял кому-то вред, если не считать моральный. Мне. А вот мы имели дело с живыми людьми.
Вопреки тому, что я считал себя плохим человеком всегда, теперь все плохое, что во мне было, как будто увеличилось в размерах и задавило все хорошее даже в других людях, не только во мне.
Еще пару дней назад святость Румани дарила мне искупление и отпущение все грехи. Моя Мадонна, моя непогрешимая дева — где она теперь? Не знаю и знать не хочу.
— Иногда в процессе у них там что-то хлюпает, потом вытаскиваешь — а он весь в чем-то буром или белом. Мыть приходится, — вдруг пожаловался мне Сагир, прервав мои мысли.
Я сглотнул.
— То есть, ты даже без резинки?
Сагир, как ни в чем не бывало, протянул:
— Ты чего, ощущения не те.
Я снова подавил рвоту и выдавил из себя:
— Слушай, мне все это знать совсем не хочется.
Вдруг я услышал шаги в коридоре.
Сагир никак не отреагировал на это, как будто вообще не заметил, а у меня душа ушла в пятки. Я подождал чуть-чуть — вдруг Сагир скоро эти шаги услышит и даст знать, прятаться мне придется или молить о пощаде?
Но Сагир ни на что не обращал внимания. Миловался со своей любимой.
— А ты вообще имеешь право их резать? — напряженно спросил я его, глядя на дверь.
— Не-а, — ответил Сагир, и в тачку со звонким шлепком упал свежесрезанный кусок мяса.
Шаги приближались, мои ноги похолодели и стали ватными, руки онемели и затряслись…
А потом дверь открыла та же девочка, что и в прошлый раз. Я облегченно выдохнул и заорал:
— Она у тебя тут живет, что ли?
— Ты че истеришь? — пристыдил меня Сагир. — Это Кадира, сестра моя. Она тебе ничего не сделает, не ссы.
Кадира, сестра Сагира, стояла в дверях и снова пялилась на меня. Я чувствовал себя неловко из-за того, что вспылил, поэтому уставился на Сагира: теперь на него смотреть было приятнее, чем на его сестру. Вопрос приоритетов.
Она, благо, молчала, и я спокойно мог игнорировать ее присутствие.
Вдруг Сагир подал голос:
— Если мозг ценнее члена, то почему череп такой тонкий, а таз — такой прочный?
Видимо, он считал свою реплику очень остроумной и как-то оправдывающей его действия, потому что после нее с вызовом посмотрел на меня.
— Потому что в голове есть глаза, которые должны её беречь! — злобно ответил я, чем вызвал заливистый гогот Кадиры.
Такой реакции я точно не ожидал, поэтому зыркнул на нее со