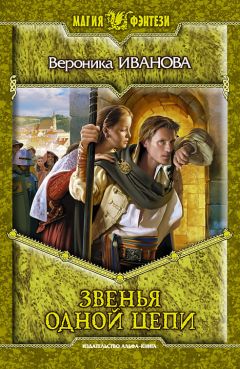Зыбин пожал плечами.
— Ничего.
— Ну а раз ничего, то и нечего играть в этот самый бесклассовый гуманизм! Тоже мне засраная интеллигенция — он не понимает, не допускает! А вот Владимир Ильич допускал, он сказал: «Мы врага били, бьем и будем бить». А ведь был гуманист почище, пожалуй, твоего Льва Толстого.
— Почему Толстой мой?
— А чей же еще? Мой, что ли? Мне его задаром не надо! Тоже мне, развел в тридцать седьмом году непротивленье злу. Им можно, нам нельзя. Вот когда пойдешь домой, посмотри — там висит у входа один плакат. Очень наглядный плакатик.
Зыбин этот плакат уже видел. Им были оклеены все стены. Железная перчатка, усаженная шипами, душит змею. Змея извивается, хлещет алая кровь. Алая, человеческая, а не змеиная, и железные шипы тоже в крови, и весь плакат, как платок, промок от крови. А надпись: «Ежовая рукавица».
Вот с этого разговора сознание Зыбина как бы раздвоилось. Он не принял рассуждения директора в полный серьез — мало ли что ему придет в голову? — но в душе его вдруг угнездился темный, холодный и почти сверхъестественный ужас. Он боялся брать в руки газеты и все равно брал и читал их больше, чем когда-либо. Боялся говорить об арестах и все равно говорил. Боялся допускать до сознания то, что таилось в каких-то подспудных глубинах, но все равно в душе этот холод и мрак жил, нарастал и уже присутствовал при каждой встрече, при каждом самом беглом пустом разговоре. Но разум у него был еще защищен надежно этим вот «не может быть». И поэтому он действительно не знал, почему подсудимые на процессах так откровенно, так говорливо, так хорошо выглядят и почему они такой дружной и веселой толпой идут на верную смерть. И что их гонит? Неужели совесть?
…В ту же ночь, но, наверно, уже под самое утро, Буддо тихонько тронул его за плечо. Он открыл глаза и сразу же зажмурился. Свет бил в глаза еще более наглый, нагой и обнажающий. Все предметы при нем казались стесанными как топором. Он хотел что-то спросить, но Буддо больно, двумя пальцами сдавил ему плечо и сказал «тес!».
Где-то совсем рядом плакала женщина — плакала тихо, горько, придушенно, наверно, утыкаясь лицом в платок или подушку.
— Кто это? — спросил Зыбин, но Буддо опять сказал «тес!» и приложил палец к губам.
Прошел коридорный, поднял глазок и о чем-то спросил женщину. Та как-то странно всхлипнула и ответила, а потом снова заныла, заплакала. И тут Зыбин чуть не вскочил. Он узнал голос Лины. Это она плакала и причитала тут за стенкой. Да он и вскочил бы, если бы Буддо не притиснул его к койке.
— Молчите! — приказал он свирепо, почти беззвучно.
Разговор продолжался. Теперь женщина не плакала, а слушала и отвечала. И вдруг она очень отчетливо произнесла его имя. Тут он уж вскочил, и Буддо уже не удержал его. Боль и страшная тоска сожгли его почти мгновенно, и он сразу позабыл все. Он хотел бежать, ломать все, схватить табуретку и грохнуть ее об дверь. Только чтоб заорал на него дежурный и назвал его фамилию, только чтоб она поняла, что он здесь, рядом — все слышит и все знает. И в это же время какая-то сила, предел, запрет, власть, невозможность пресекли его голос, и он не закричал во всю мощь, а только забормотал — часто и нескладно:
— Я голодовку… Я сейчас же смертельную голодовку им! Я к верховному прокурору… К наркому! Я на седьмой этаж сию минуту!
— Да молчите же вы, молчите! — испуганно шипел Буддо, зажимая ему рот. — Чего вы кипятитесь? Ну? Ведь ничего же нет. Это кажется вам. Вот и все, — наконец ему как-то удалось переломить Зыбина у пояса и усадить на койку. — Вот еще истеричка! — сказал он с презрительной жалостью. — Это же обман чувств, наваждение. Я тоже первую неделю все слышал голос жены. Вот выпейте-ка воды! — И только он отошел от него, как женщина за стеной вдруг громко засмеялась — и он понял, что это не Лина, и даже голоса совсем разные.
— Господи, — сказал он облегченно, как бы разом теряя все силы. — Господи, — и повалился набок головой в подушку.
А женщина сказала что-то уже в полный голос и пошла по коридору, чем-то звеня и напевая.
— Здесь раздаточная рядом, — объяснил Буддо, — ведра и бачки стоят. Вот и кажется.
— А что же вы… — начал было Зыбин громко и возмущенно, но сразу же сник и не докончил. Потому что в самом деле было уже все равно.
Машинально он пощупал бровь. Синяк — предмет строгой тюремной отчетности — наливался как слива и готовился к утру закрыть весь глаз.
Утром его вызвали на допрос. «Неужели опять к Нейману?» — подумал он. Но сразу увидел, что нет, ведут не вверх, а вниз. И кабинет был совсем не такой, как у Неймана, небольшой, темноватый, в окно лезли тополя, а дивана и кресел не было. Следователя звали Хрипушин (Зыбин прочел его фамилию, когда подписывал бланк допроса). Был этот Хрипушин статным мужчиной лет сорока, с тупой военной выправкой, с большим плоским лбом и мощными, похожими на рога жука-оленя бровями. А глаза под этими бровями были у Хрипушина светло-оловянные. Затем был у него еще пробор по ниточке, френч, блестящие сапоги; Но вообще-то, конечно, мужчина что надо. Таких любят ловцы душ человеческих. «Обратите внимание на такого-то студента, — докладывают они. — Я с ним парочку раз толковал, кажется, наш человек». Хрипушин, конечно, по всем статьям был нашим человеком.
— Здравствуйте, — сказал он строго и кивком отпустил разводящего, — вот садитесь сюда, — показал на стул у двери. — А что это у вас с глазом?
Зыбин ответил, что это он расшибся во сне.
— Что же вы так беспокойно спите? — сурово и насмешливо спросил Хрипушин. — У врача были? Хорошо, проверим. Так, имя, отчество», фамилия, год, место рождения. Все точно и полностью.
Зыбин ответил, Хрипушин записал, и затем часа два они оба сосредоточенно работали. Кто родители? Как девичья фамилия матери? Где учился? Где работал? Имел взыскания? Где проживал до ареста? По адресам. Если ли братья и сестры? Адрес? Какие есть еще родственники? Адреса! Какие знаете иностранные языки? Был ли за границей? Был ли под судом и следствием? Подробно, подробно, подробно! Не торопиться. Сейчас уже некуда торопиться.
Но Зыбин и не думал торопиться — у него даже в голосе прорезались этакие широкие партикулярные нотки — когда он объяснял, что такое фитопатологическая станция имени Докучаева, где работает его сестра, что Докучаев пишется через «о», а «фитопатологическая» через «и», «а» и два «о». Хрипушин тщательно записывал все и лишь иногда вскидывал на него испытующие грозные оловянные глаза — не издевается ли враг? Но враг был совершенно серьезен и спокоен. Он хорошо запомнил Буддо: теперь следователь мудрый пошел, это не то что раньше — он вас уже с первого допроса просветит насквозь. Вот посадит вас у стенки и начнет душу выдавливать, как, да что, да где — ты и так весь кипишь, хочешь поскорее понять, в чем дело, а он точит и точит…
Ну нет, на эту дурочку вы меня, дорогие товарищи, не возьмете. Достаточно было уже одного Неймана — а терпения у меня воз и маленькая тележка. Дядя? До революции мой родной дядя по отцу Сергей Терентьевич работал в городе Мариуполе мировым посредником — это через «о», — а во время империалистической служил в Союзе городов. Это, кажется, с большой.
Так они в полном согласии прописали до вечера. Кончили один бланк, взяли другой. Зажгли свет. Наконец Хрипушин отложил ручку и сказал:
— Теперь назовите всех ваших знакомых.
И тут Зыбин действительно чуть не рассмеялся. До чего все шло именно так, как он ожидал. Еще месяца два тому назад Корнилов, изрядно подвыпив, рассказал ему о своем первом допросе. После очень корректного и неторопливого анкетного разговора следователь вот совершенно так же положил ручку, откинулся на спинку кресла и сказал: «А теперь назовите всех ваших знакомых». «Я спрашиваю его: то есть как всех?…» — «Да так вот, всех. А что, у вас их так много?» И стал я называть: назвал сослуживцев — это легче легкого, потом соседей, тоже несложно, а потом дошло до товарищей по учебе — тут уж я стал думать: ведь были просто однокурсники, а были и настоящие друзья — а с друзьями и дела, и разговоры были дружеские. Так вот всех их называть или не всех? Назвал не всех. Затем женщины — с ними уж совсем морока. Если назвать, то их потащат в свидетели, а если нет, то, может, еще скорее потащат — так как же, называть или нет? Вот как бы вы поступили?»
Он тогда пожал плечами и сказал, что так сразу же ему ответить трудно («Ага! А мне, думаете, было легко?» — обрадовался Корнилов), но, верно, некоторые наиболее явные знакомства скрывать все-таки невозможно. «Так вы, значит, назвали бы! — подхватил Корнилов. — И сейчас же пошли бы вопросы — где познакомились? Часто ли встречались? Где? Когда? Кто еще присутствовал? Были ли в ресторанах? Когда, в каких? В какой компании? А может, в кабинете? А потом вызовут ее, да и покажут ваши показания. И не полностью, конечно, а строчек с десять, там, где про ресторан. Вот и все! И девчонка уж на хорошем крючке! Вот как я все это сообразил, так у меня в зобу дыхание и сперло. Смотрю на следователя и молчу. И он смотрит и молчит. Ждет. А что ему торопиться? Ему все равно жалованье идет. Вот тут я и взвыл. От нелепости, от беспомощности, от того, что не поймешь, что же отвечать! Ох, этот первый допрос! Он мне вот как запомнился! Потом все много легче пошло — появилась конкретность. И хоть я и виноват не был — я же рассказывал вам, как все это получилось, — но это уж другое дело! Раз заложили, то, как говорится в анекдоте, «не теряйте, кума, силы и идите спокойно на дно». Я и пошел. Раскололся и подмахнул! Не глядя! А что там глядеть! Но вот этот первый тихий, заметьте, совершенно тихий допрос — вот он мне запал на всю жизнь. Ну а потом выяснилось, что ни беса лысого они не знали. А просто на пушку брали! Есть у них такие штучки для слабонервных!»