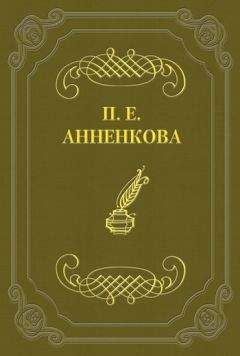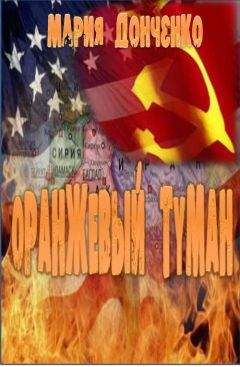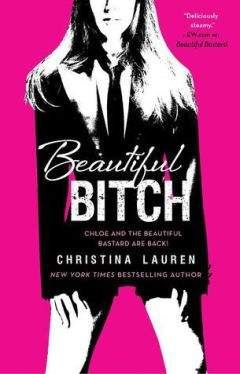От этого как-то хуино стало всё на душе, и они мрачно смолили крепко сложенного, но ни к чертям не забирающего быка. Товарищ сказал ангелу «Слушай, брат-ангел, скажи мне по правде – для чего нам дана эта жизнь, если даже самые крепкие быки не могут вставить нас в небо?». И ангел ответил сумрачно и непонятно «Нихуя… нихуя…».
С такой философией незаметно подкрался вечер и наступила ночь. На седьмом этаже умер не выдержавший такого гамна дворник Тарас, изрядно, до души, накорчившийся от отравленной водки и до ёбаного накорячившийся в этой слаженой жизни. Ангел встал тогда, засунул руки в карманы и сплюнул в песок. «Хуила!…» - зло выругался ангел. Так зло, что товарищ понял – его проняло.
- Кто хуила? - переспросил на всякий случай товарищ. Так просто переспросил, чтобы больше знать (он раньше работал отважным пионером-ракетчиком в детском киножурнале, раскалывавшем любой вопрос, как орехи). Он и сам догадывался уже, что никто. Конкретно никто, а просто…
- Никто! - сказал ангел тяжело и закашлялся так, что на песок вслед за его плевком полетели заодно и ошмётки его окровавленных лёгких.
- Само собой… - согласился товарищ и на обоих них накатила большая давящая волна.
Грузовики горели в полёте и им было не важно с кем воевать. Они были не военные грузовики, они раньше возили арбузы на детских рисунках, пока всей этой картинке не приснился общий пиздец. А теперь, если их хорошенько было оттянуть за уши ветряных форточек, они были похожи на стадо разъярённых индийских слонов. Они несли в себе грандиозный конец света мирным деревням вольно трахающихся индийцев и пацифистов…
За участие во взятии Бастилии ангел получил медаль «За отвагу!» и деревянную ногу. И он никогда не жалел об этом потом, а гордо приносил свою хуеву медяшку на собрания востроносых пионеров. Они смотрели, как он кряхтит и прыгает словно дятел на своей чудо-ноге и уважали его по-серьёзному. А ему в таком случае было накласть на вселенную. Он сам себе такая вселенная был, что закачаешься! А его товарищ лёг, подорвав собой ворота Бастилии, и ангел никогда не рассказывал пионерам про свой героический штурм, хоть его самого там трижды вывернуло наизнанку ранениями. Ангел всегда рассказывал, что был у него один очень верный товарищ, которого сейчас нету, но который и теперь живее всех живых…
«Дяденька ангел, а ты мог улететь? У тебя же крылья!» - спросила как-то один раз его маленькая пионерка и ангел тогда и заложил динамитные точки хронического неравновесия всех возможных будущих сытых обществ обожравшегося мракобесия:
- Нет, зайчонок. Так не бывает!
…Когда они возвращались, было уже ранее утро и на похоронах глупожопого дворника Тараса присутствовал и плакал сам Александр Сергеевич Пушкин. За час до свой собственной смерти. Они подошли к Александру Сергеевичу и спросили:
- Скажите, пожалуйста, не найдётся ли у вас хлеба?
Александр Сергеевич посмотрел на них и сказал:
- Нет, ребята, извините - я не захватил. Но зато у меня есть гандж и отличное стихотворение про матросов, которые на палубе курили папиросы.
- Саня, брось, - сказал тогда ангел. - Они один хуй всё потом переврут. Хуиные твои почитатели, пысающие мимо брюк от хорошо оплачиваемой восторженности. А я тебя поздравляю от всей кстати! В следующей жизни ты будешь Александром Матросовым! Ни хуя не сможешь запомнить ни одного своего теперишнего стиха, но захуяришь такую прозу, что родина-мамка исплачет по тебе свои прекрасные голубые озёра глаз.
Александр Сергеевич улыбнулся скромно и радостно и пошёл стреляться с Дантесом, которого он тоже любил, и за своевременный выстрел в том числе.
А гандж он оставил им на добрую память о нём. И они унеслись…
Волны окутали небосвод и где-то далеко уходил в открытый космос белый маленький бесстрашный парус. Ему было до очарования по хуй всё и совсем не беспокоило отсутствие вокруг атмосферы и жизненных благ. Это раньше думали, что невозможно, а теперь он плыл по волнам пустого мирового пространства в поисках хоть одной родной души. Потому что найти кого-нибудь в открытом космосе ещё никому не удавалось и было очень интересно. Звёзды смотрели на маленький белый парус и они были единственные, кто смотрел на него. И единственные, кто смотрел на него с восторгом. А больше всё равно ничего не было...
А потом выпал дождь из цветов и они щекотали глаза. Ангел хотел заплакать от щекотки глазами, но увидел утопающего в цветах товарища и захлебнулся от смеха. Они барахтались в сугробах цветов и морские снежинки и ёжики ластились вокруг них всюду и норовили заглянуть в лицо, от чего смех разрывал собой ещё больше…
Очень хороший и добрый гандж был у Александра Сергеевича Пушкина и они припрятали пяточку на потом, чтобы в любой момент иметь под рукой хоть немного себе радости…
И очень осторожно, осторожно очень поднял к небу глаза и сказал тихо, но так что они все услышали:
это вам за всё!
Для чего же он тогда умер?
Они смеялись дружно собравшись в хоровод и никому никому никому от этого не становилось весело. Её истерзанный труп лежал потерянный всеми в запрятанных ветках кустах и ни у кого не вызывал ни капли любви или зависти.
***
Они нашли её ближе к утру, а ночью было наконец оно - счастье. А его нашли упитым до безумия с глазами налитыми недобром и кровью в одном из приморских кабаков. Утончённая его натура не терпела жизни и он убил её очень жёстко вчера. Они подкрадывались, а он смотрел куда-то в свою трещащую по швам вечность и не видел даже кончиков своих пальцев. От боли в суставах накапливалась холодная ядовитая его кровь. Он совсем не смотрелся в этом постигающем его мире, но это было неважно, и они забрали голыми руками за шкирку его. В холодных зелёных глазах плясали огоньки какой-то неземной непонятной свирепости и они не смотрели ему в глаза, чтобы он знал!
Там не было крыш, в этом мире. И можно было бы смотреть в небо всегда если бы только небо не выжигало, ежеминутно не выжигало страхом и ядом глаза. А не видеть неба ведь никак! А оттуда, как из всегда разрезанного живота - боль и крошки запекшегося от боли хлеба!
Мы не боимся вас - небо! Но нам очень больно смотреть… И поэтому мы складываем песни и хороним их, чтобы мертвецы нам на ночь хоть иногда пели!
И ещё у нас осень. А вашего камикадзе мы выведем! Сегодня у нас будет настоящий пораненный суд…
***
Они посмотрели ещё на всякий случай ему вслед и втолкнули его в крепкие прутья железной, возможно ни хуя не ржавеющей, клетки.
Чтобы он не вышел, они пропустили по земле лёгкий ток и так он точно будет уже говорить правду! Хоть может даже ему и не хочется.
-Зачем ты, собака, убил её?!!!
-Мы вырвем тебе сердце и растопчем глаза!
Глупые, у него давно уже не было сердца и были страшно холодные бесполезные для всех глаза. Он думал что то про себя и думал, что это правда, а они тыкали в клетку железными смех-шомполами, чтобы было по-настоящему, а не понарошку, больно. Потом судья успокоил их. Третейский. Хуев. И он посмотрел на всегда присутствовавшее в этом чёрном мире небо. Прямо в глаза. Чтоб они там все охуели!!! И у него закачались от боли подвешенные за гениталии его страшные недобрые больше глаза. Здесь небо умело смеяться всерьёз. Он подпрыгивал и подёргивался седалищем от постоянного напряжения тока и по венам его хохотала дрожь. Чтобы он знал!…
Судья рассадил их по скамьям окнам и подоконникам. Потому - ему тоже всё настопиздело и надо было судить. Дегенерат. У него от боли постоянно сводило печень и подбородок дёргался, но он был судья и сейчас будет очень всем хорошо.
Они и не спрашивали его, они сами всё знали и рассказывали ему и рассказывали и рассказывали всё одну и ту же всё одну и туже всё одну и ту же страшную страшную страшную ему сказку. А он на ночь боялся и не ложился никогда поэтому спать и ему холодно было от такого никогда не угасающего неба и нечем было совсем здесь дышать. Сказку про ласковую его неутолимую никогда не покидающую его любовь. Чтобы он знал, чтобы он знал, чтобы он знал! Они пугали его и он точно боялся. Но не дрожал в своей клетке, а думал что утра не будет. Не будет никогда. Здесь никогда не будет утра. И хуй с ним. Но так оно всегда становилось нехорошо, что он плакал как последнее нетронутое ещё на этой земле существо…
***
Здесь очень трудно дышится и почти никогда никто не выживал, но зачем вы взяли так быстро его. Он, маленький мой, не успел ещё толком и промолвить: агу…
Мы встретились с ним так ненадолго, но вам никогда такое ведь и не снилось! Когда вы царапали меня всегда всю жизнь коготками, я ведь вам ничего не говорила. А вы забрали его так скоропостижно, сразу после нашей первой брачной ночи. Вы умираете каждый день, а совсем совсем совсем ничего не понимаете! И он теперь задыхается в вашей душно непроницаемой клетке, а я не могу понять, чего же вы хотите от него. Ведь только от него одного я на один только миг и была счастлива!…