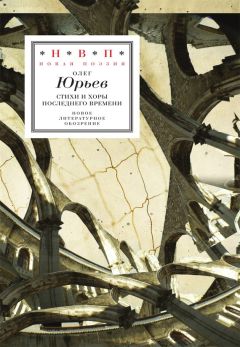4. ДНИ ПЕРЕИМЕНОВАНИЙ
В створке бойнички моей, в полукруглоголовой, растворенной вовне, матово переливается и пересекается с сумеречными соплями над площадью - скошенно, немо и яростно - ромбовидное отражение телевизора “Stassfurt” производства б. ГДР (сам он за спиной у меня, на комодике - старинный, гигантский, разделан под серополосатый орех, а на нем рыжими бакенбардами страшный Бетховен) - переливалось бы, будь он включен. Но включается и выключается он по своему разуменью - когда хочет: клавиша “вкл.” утопла и не выковыривается, а пульта дистанционного управления, иначе называемого еврейский баян, к древнему “Штассфурту” не полагается. На второй день, как я въехал, что-то заскочило в серебре и стекле его внутренностей, или же неприспособлен он оказался ментально к двадцати четырем немецким программам общеимперского кабеля, пяти чешским, CNN, “Евроспорту”, MTV и TRT - страстному турецкому иновещанию имени Полада Бюль-Бюль-Оглы: изображение стало перескакивать с канала на канал, через каждые тринадцать секунд регулярно. Закона его перескоков я тогда выявить так и не смог, хоть и сидел перед ним часы напролет по-турецки - дни напролет, месяцы (в подоле распяленной коленями юбки лубяной короб с казинаками, похожими на обломки солнечно-пыльных крепостей левантинских, из турецкой же лавки) - на бобрике, засеянном крошками и свитками извилистой пыли (Божена-уборщица уехала отдыхать на Канарские острова и вышла там замуж за цыганского барона Виталио, репатриировавшегося из Ленинградской области как республиканский ребенок), сидел и записывал в сувенирный блокнотик “700 лет Юденшлюхту” бесконечные столбцы номеров. Месяца три с половиной, со второго дня, как приехал, сидел напролет, до середины апреля, потом от турецкого сидения этого у меня стали сдвигаться и щелкать мениски, и я уехал в бывший г. Ленинград - недели на две по архивному делу.
Там, в б. Ленинграде, пятнадцать лет тому назад или меньше, то ли шутя, то ли притворяясь, что шутит, во всяком случае - отгибая к спине плоскую, но румяно-щекастую, благородными вихрами расширяющуюся от ушей голову, голову как бы лауреата Сталинской премии, объяснял мне Б.Б. Вахтин, сын Веры Пановой, переводчик с китайского и непечатный по тогдашнему скифопарфянскому вкусу прозаик, что единственной книгой, действительно профессиональному литератору нужной, является календарь памятных дат, да потолще и поподробнее. Единственный же секрет литературного и журналистского ремесла, особенно радиотелевизионного: запомните, Юлий - юбилейной датой считается всякое годовое число, без остатка делимое на пять.
Нет, не меньше пятнадцати, в восемьдесят первом он умер. Кажется, осенью.
Все же не знаю, единственный ли это секрет. Сомневаюсь. Когда я приехал, по семи объединенно-немецким каналам одновременно, но с отстоянием в несколько кадров шли “В джазе только девушки” - под Новый год (и месяц потом еще), рассказала мне Ирмгард, бургомистрова внучка, у них всегда идут “В джазе только девушки”, это как у нас “Раз-два-три, елочка, гори, или С легким паром”. Но и тридцатилетие Мерилинкиной смерти, в соответствии с юбилейной наукой, недалеко еще было тогда, что-то с полгода, когда я приехал: ...укулеле в вагонном проходе, ляжечная фляжечка бряк... I wonna be loved by you, сиськи под газом, как дыни-корольки, неподвижны на белом шевелящемся теле... и вдруг - сиськи под газом, как дыни-корольки, неподвижны на белом шевелящемся теле, Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, Mr. President, happy birthday to you... и - по горло в свитере, курносая, старая - бедная старая еврейская девушка Мерилин: курит, глядит никуда, что-то бормочет - экран несколько раз подпрыгнул на месте, я разобрал пару закадровых слов: разоблачили, оказывается, пожалуйте бриться: не самоубийство, разумеется, никакое, а евнухи из тогдашнего цезаря личной охраны в ангельский гинекей ворвались и, бедную, отравленным клистиром ее умертвили. Цезаря или брата цезаря? Не разобрал, ускакало.
Но как бы покойный Борис Борисович объяснил мне другое? Почему разноухий актер, человечеству неизвестный, в шестидесятилетней давности шестиразрядной фильме вот, балансирует между столиками хрустальным подносом на поднятом над головой троеперстии, а два перескока спустя он же, но в шляпе высовывается из-за сарая, чтобы подставить морщинистый лобик под “смит и вессон” набриолиненной курочной знаменитости? И больше его никогда не будет, а если и будет, так снова дважды зараз. Почему, если сырая блондинка смотрится в зеркало, то через три прыжка обнаружится научно-популярный фильмец о производстве венецианских зеркал (или тель-авивских блондинок, или по культурному каналу Тарковский), а еще через пару - симпатичный вампир, сосредоточенно чистящий перед сном длинные зубы? Это может быть и рекламой пасты. Почему искусно замурзанный вестерновый вахлак, His name is Nobody, продолжается на “Евроспорте” заставкой всемирного конкурса парикмахеров: IS (International Styling), а заканчивается телевизионным уроком английского (...а сейчас, дети, мы начнем изучать время, называемое Past Perfect)? НАЙДИ И ПРИШЛИ В РЕДАКЦИЮ СПРЯТАННУЮ ФРАЗУ! А бывает еще и другое, бывает, что одно какое-нибудь мелкое слово застрянет и бьется, и бьется, отскакивая во всех падежах и родах (ну, какие там у них падежи...). Да кто бы нарочно стал программировать бесчисленные эти повторы, подбросы, подхваты, эти поперечные сюжеты дурацкие? Не иначе, постепенно пришел я к суждению, в медиальных решетках засели какие-то малолетние бесы - они-то эти узоры и складывают, для собственного удовольствия, играя друг с другом - или друг против друга - в какой-то своей - сквозной, что ли, реальности, проходящей в отдельную (любительскую и полукопченую) реальность отдельного зрителя сквозь каналы телевизионных каналов. И чем этих каналов больше, тем ближе эта реальность, тем плотнее она сшивается с нашей... - так я подумал и даже затеял об этом писать тяжеловесно-остроумный эссей не без мысли, нерусской и задней, продать его в “Русскую мысль”, выходящую в городе Париже газету, где Бунина принципиально называют Иваном Андреичем, а некрологи помещают в разделе “Пути русской культуры”. Но выяснилось, что незадолго до этого Американская Империя отключила антисталинский ‹рган от крантика с даровыми денариями, и пришлось ему,солнцем палиму, брести на туфлелобзание к римскому папежу. Вслед за чем на рю дю Фобур Сен-Оноре подъехали четыре мрачно-любезных аббата из ватиканского финотдела - месяца четыре проверяли балансы, начиная с 1948 г. Аты-баты, шли аббаты... Тем аббатам, однако же, нашептали добрые люди, что это я-де, устно и письменно, предлагал переименовать “Русскую мысль” в “Римскую блядь”, пользуясь выражением протопопа Аввакума, и забубенное это бонмо сообщено было лично Великому Пшеку. Тот поставил вопрос кардинально, я бы сказал, на попа, и собственноручно составил энциклику “Iulio Goldsteino prohibemus”. Так что писать я о демонах медиальных ничего не писал - только ходил от телевизора к окну и обратно, до середины апреля ходил, до отъезда в обратно переименованный С.-Петербург по архивному делу. Потом, вернувшись и не скинувши даже маминой плешивой цигейки до середины бедра, поднял блокнот с бобрика и перелистнул чубастые странички еще раз: цифры, цифры от 1 до 33 - столько в телевизоре юденшлюхтском каналов. Столько и букв в русской азбуке, спаси ее, Господи, в эти смятенные дни - дни переделов и переименований. И как русская пианистка, прямо в цигейке уселся к столу - подставлять. Оказалось, из б. Ленинграда письмо - мне, от Елены Андреевны Шварц. Как же я сразу не догадался, когда “Штассфурт” начал скакать по каналам?! Голова - не Дом Советов, говорила покойная нянька моя, баба Катя, и смеялась, развеваясь седая.
Дорогой Юлий! О Стрельне: перенасыщенное смертью, тлением, гниением и слухами о кладах и подземных ходах место, при этом тускло освещенное заливом, его сиянием. В войну там прямо на берегу погибло огромное количество ополченцев, которых десант выбросили прямо в залив, а немцы с берега из пулеметов всех почти положили. Двое-трое ушли по воде в город. Братская могила как раз на нашей улице была, за нашим домом, мама там свечи ставила. А еще ближе к Заливу часовенка св. Николая, первая в России из железобетона. Мы снимали дачу на улице Портовой - ударение польское, на предпоследнем слоге. Мы там с Вами проезжали. Она главная в приморской части. На одном ее конце деревянный дворец Петра, на другом яхт-клуб. На берегу речки Стрелки, параллельной этой улице, мы снимали верандочку и крошечную комнату с почти провалившимся полом и маленькую мансарду, где мама жила, где тоже все было в состоянии крайней ветхости. Кухни не было, там жили десять кошек, подобранных хозяйками, и ужасный запах. Этот дом - самый ближний к Заливу, единственный сохранившийся после войны, когда-то большой и крепкий, там был немецкий штаб. Все остальные дома сгорели. Хозяйки - две старушки, из которых старшей девяносто лет. Ее муж был смотритель парка, он умер от горя, чуть ли не с собой покончил, когда при Хрущеве вырубили все деревья в парке. Для красоты. Во многих дворах между Стрелкой и Портовой растут еще посаженные при Петре дубы или их дети. У меня был такой любимый дуб, я все время под ним читала. Когда мы уехали ( и больше не вернулись), можете не верить, но друзья, которые забирали мои вещи оттуда, сказали, что листва вся стала черная и высохла. В том же дворе однажды рухнул древний вяз и чуть меня не убил, это было как предвестие бед, и мы с мамой это почувствовали тогда же. Грохот был громовый, вся Портовая сбежалась, все ахали.