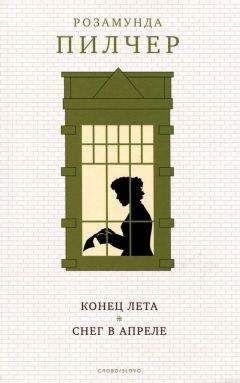глаза, глубоко вдохну и, выдохнув, отпущу теплую воздушную массу, поддерживающую мою спину и полечу назад в пропасть. Я буду деревянной кеглей, лакированной безразличием, разбрасывать в сторону спящих пассажиров, мое лицо сравняется с шеей, с плечами, оно не будет ничего обозначать – никаких гримас, они ни к чему. Пассажиры, резко тянущиеся за свои телефоны, чтобы написать, что опоздают сегодня на работу, или, может, и вовсе не придут, так как на них летит огромная лакированная кегля, не успеют, они тоже задеревенеют от ужаса и покроются лаком безразличия, пульсирующим светильниками метро, и отпустят все. Уже не важно. Уже случилось.
Знаете?.. Сказать честно? Порой, мне думается, что у меня есть ровно столько, чтобы не сойти с ума. Ага. Не больше, не меньше. Я запутался. Я хочу найти себя, найти своё место, и у меня категорически это не получается. Сорняк в кривом огороде у железной дороги, по которой проносятся ржавые электрички Санкт-Петербург – Калище, никогда не сможет стать красивым тропическим цветком. Тропический цветок на болотах – вечный поиск. Вечный поиск – каждый новый день как будто первый шаг к верной жизни, но сейчас мне кажется, что это просто вечное бегство. Нескончаемое ничего, затерявшееся среди нефритовых сопок и бетонных заборов далекого Дальнего Востока.
Я сказал тогда это Яне из Купчино, когда мы обнимались, когда она предложила потрахаться. Я ничего лучше не придумал, точнее – я даже и не думал – слова сами потекли из моего рта: «Я иногда мечтаю, что мое бездумное существование рождает высокое и вечное». Не больше не меньше. Яна точно этого не ожидала. Она промолчала, но мне показалась, что ее объятия стали крепче. «Знаешь? Я – одинокая невысказанная неловкая мечта!» – продолжил я, пялясь на нависший над нами строительный кран. Молчание в ответ и еще более крепкие объятия. Облака заскользили быстрее, стремясь сменить сцену, они плакали, им было тоже неловко, они мутной лужицей покрывали асфальт.
Как я уже выше говорил, я – бухгалтер. Работа так себе. Бумажки, цифры и скрепки. Отчеты, калькуляторы и нескончаемые печеньки на алтаре отдельной полки шкафа с папками всех цветов пыльной радуги. И она. Тоже бухгалтер. Мне как-то сказали, что меня взяли сюда благодаря ей. Ее зовут Ира. Она мне очень нравится, особенно её темные воздушные кудри, глубокий пронзающий тебя взгляд. И то, что она очень добрая и справедливая. Доброта – самое важное в людях. Хуй поспоришь. Я часто пытаюсь отвлечься и не думать о ней. И у меня даже иногда получается, но, когда я прихожу в офис после выходных и вижу её улыбку, все увикендные потуги разлетаются щепками.
Я живу один. Да, мне бывает довольно одиноко, но кто я такой, чтобы жаловаться? Как-то проезжая по Большому проспекту Петроградской стороны, я остановился на красный свет светофора напротив магазина Вкустер. В окне на кассе я увидел Иру, она была с мужем, счастливая, брала вино и что-то еще. Я ловил ее взгляд, чтобы она посмотрела в окно, чтобы наши глаза пересеклись, чтобы помахать ей. Сзади стали сигналить – зеленый горел уже 10 секунд. Я поехал. Я почему-то расклеился, но решил, что я – кремень. Похуй на все. Ночью мне снились странные беспокойные сны, финалом которых были объятия. В жизни таких не бывает, по крайней мере не было у меня. Если можно было бы разлучиться на сто лет с любимым человеком, первой своей юношеской любовью, зародившейся на закате под весенним цветом сирени, тут же провести ночь в благоухающей майской неге, а на заре расстаться, расстаться на сто лет, и все сто лет носить ее фотографию в кармане у сердца, предвкушая встречу, и жить ею каждую минуту, то объятия были бы, наверное, такие. Жаркие и мокрые. Тесная влага склеивала наши лица. Во сне я обнимал Иру. Я очнулся. Умылся и пошел на работу. Сирень отцвела, но я ее чувствовал, нарвал букет и убегал от разъяренной бабки из дворов хрущей, смеялся, что опаздываю на работу, смеялся, что бабка не догонит, смеялся, что как будто сломался от ночных несуществующих объятий, представил, что они были, что сон – воспоминания, и если очень постараться, то можно все повторить наяву, и начать писать новый черновик, не такой серый, не черной ручкой, ведь есть еще цветные карандаши, рассветы и закаты и вечная пахнущая весна.
Ира ничего не знала. Я вообще на работе ни с кем не говорю. Прихожу, открываю 1С, загружаю soundcloud и начиню фигачить. Удовольствия, конечно, мне это не приносит. Как-то вышло, что я здесь. Зачем-то закончил экономический, понимал, что что-то не то – не мое, но не хватило смелости бросить. Да и страх армии, да и слова родителей, что дело бросать на полпути нельзя. Потом долго искал работу и вот я тут.
Вообще, мне нравилась музыка, и я пытался её сочинять и даже купил синтезатор, но дальше mix1, который я скинул когда-то моему другу, это не зашло. В детстве я так же мечтал быть барабанщиком, и даже пару раз играл со своими школьными друзьями в заплесневелых точках Леннаучфильма, но это ни во что не переросло. В общем, всё, к чему я прикасался, лопалось, как мыльный пузырь. То есть сначала он был такой большой, сверкал в лучах солнца разными красками и парил как воздушный шар на рекламе телевизора начала 90-х, но стоило прикоснуться… Недавно у меня появился новый мыльный пузырь – я хочу написать книгу. Купить водолазку и отрастить неряшливое каре. Хочу, чтобы друзья подарили мне на день рождения путевку в Лаос на год и сказали: «ты должен написать книгу, ибо нехуй». Я был бы им очень благодарен. Но у меня нет друзей, которые могли бы так сделать. И что бы я написал? Я не люблю говорить. Большинство слов мне кажутся лишними, а вечно пиздящие балаболы выводят меня из себя.
День подходил к концу. Луч солнца ворвался в офис неожиданным, но приятным гостем и, проскользнув по панельному перфорированному потолку, ярко осветил все мои мечты, окружившие монитор пыльного серого монитора. Какие они красивые, пусть такими и останутся, лучше их не трогать.
Когда я стою у большого зеркала после ванной, то смущаюсь своей бычьей шеи и рыхлому телу на слишком тонких для такой шеи ногах. Ноги могли бы сделать и подлиннее, говорю я и скоро накидываю свободные штаны с футболкой, пряча как