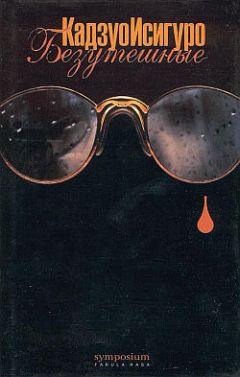– Почему? – спросила я. Она засмеялась:
– Да так, нипочему. Я хотела бы получить от тебя прощение, но не рассчитываю на него. В любом случае это еще далеко не все, это только малая часть. Главное – что я помешала вам с Томми быть вместе. – Ее голос снова превратился чуть ли не в шепот. – Это было самое плохое, что я сделала.
Она немного повернулась и в первый раз боковым зрением посмотрела на Томми. Потом, почти сразу, опять направила взгляд на меня одну, но теперь ощущение было такое, что она обращается к нам обоим.
– Это было самое плохое, что я сделала, – повторила она. – За это я даже не прошу у вас прощения. О господи, я столько раз повторяла это про себя, что теперь поверить не могу, что говорю по-настоящему. Надо было, чтобы это были вы с Томми. Я не собираюсь делать вид, что только потом это поняла. Разумеется, всегда понимала, с самых ранних пор, какие могу вспомнить. И все-таки не давала вам сойтись. Я не прошу у вас прощения, я не для того сейчас завела этот разговор. Я хочу, чтобы вы это исправили. Исправили вред, который я вам причинила.
– Что-то я не пойму тебя, Рут, – сказал Томми. – Как это – исправили вред?
Его голос был мягким, и в нем звучало какое-то детское любопытство. Это-то, я думаю, и заставило меня разрыдаться.
– Кэти, выслушай меня, – сказала Рут. – Вам с Томми надо попытаться получить отсрочку. Если это будете вы, то шанс есть. Реальный шанс.
Она положила мне на плечо ладонь, но я резко ее сбросила и гневно посмотрела на Рут сквозь слезы.
– Поздно пытаться. Время упущено.
– Нет, Кэти, совсем даже не поздно, ничего не упущено. Да, у Томми было две выемки. Но разве это что-нибудь меняет?
– Поздно, поздно все это затевать… – Я зарыдала с новой силой. – Даже думать об этом глупо. Так же глупо, как мечтать о работе в том офисе. Поезд давно уже ушел.
Но Рут качала головой.
– Да нет же, не поздно. Томми, скажи ей ты.
Я сидела, сильно наклонившись к рулю, и поэтому не видела Томми вовсе. Раздалось его озадаченное мычание, но слов никаких он не произнес.
– Послушайте меня, – снова заговорила Рут, – послушайте оба. Мне надо было, чтобы мы все втроем сюда отправились, потому что я хотела сказать то, что сказала. Но еще я должна вам кое-что дать. – Говоря, она шарила в карманах куртки и теперь держала в руке смятый клочок бумаги. – Томми, возьми лучше ты. Смотри не потеряй. Потому что вдруг Кэти еще надумает.
Томми просунул руку между спинками сидений и взял бумажку.
– Спасибо, Рут, – сказал он так, словно получил от нее шоколадку. Потом, через несколько секунд, спросил: – Что это? Я не понимаю.
– Это адрес Мадам. Помнишь, как вы меня оба сейчас уговаривали попытаться? Вот сами и попытайтесь.
– Где ты его откопала? – спросил Томми.
– Не так-то просто было. Времени потратила уйму, даже без риска не обошлось. Но в конце концов раздобыла – для вас. Теперь все в ваших руках, найдите ее и попытайтесь.
Я тем временем перестала плакать и запустила мотор.
– Ладно, хватит, – сказала я. – Пора везти Томми обратно. Потом еще самим ехать и ехать.
– Но пожалуйста, подумайте об этом, оба подумайте, хорошо?
– Сейчас я просто еду назад, – сказала я.
– Томми, ты сохранишь адрес? На случай, если Кэти решится.
– Сохраню, – пообещал Томми. Потом, тоном гораздо более серьезным, чем в первый раз, промолвил: – Спасибо, Рут.
– Так, лодку мы посмотрели, – сказала я, – и все, надо двигаться. До Дувра нам добираться два часа, если не больше.
Я снова вырулила на шоссе, и, насколько помню, мы до самого Кингсфилда почти не разговаривали. Под навесом, когда мы въехали на Площадь, по-прежнему тесной кучкой стояли несколько доноров. Я развернулась и выпустила Томми. Ни я, ни Рут не обняли его и не поцеловали, но, идя к группе доноров, он на полдороге обернулся, широко улыбнулся нам и помахал.
Это может показаться странным, но на обратном пути к дуврскому центру мы, по существу, ничего из сегодняшних событий не обсуждали. Отчасти потому, что Рут очень устала – разговор на обочине, казалось, лишил ее всяких сил. Но еще, я думаю, мы обе чувствовали, что хватит серьезных бесед для одного дня, что от попыток продолжить пользы не будет. Что испытывала Рут по дороге домой, я толком не знаю, но я лично, когда сильные переживания улеглись, когда стемнело и зажглись огни вдоль шоссе, была в очень даже неплохом состоянии. Словно ушло что-то, очень долго надо мной нависавшее, и хотя сказать, что все уладилось, конечно, было нельзя, открылось по крайней мере окошко к чему-то лучшему. Не то чтобы я ощущала подъем или что-нибудь в этом роде. Отношения между нами тремя представлялись мне тонкими и сложными, я была напряжена – но напряжена как-то по-хорошему.
Мы даже Томми не стали обсуждать – согласились только, что выглядит он нормально, и попытались прикинуть, сколько он прибавил в весе. Потом потянулись большие отрезки пути, когда мы обе просто молча смотрели на дорогу.
И только через несколько дней я увидела, какую перемену вызвала эта поездка. Вся закрытость, вся подозрительность между мной и Рут испарилась, и мы, казалось, вспомнили все, что значили друг для друга. Тут-то и началась у нас эта пора – близилось лето, здоровье Рут наконец-то стабилизировалось, я приезжала под вечер с минеральной водой и печеньем, и мы сидели бок о бок у ее окна, смотрели, как солнце опускается за крыши, и говорили про Хейлшем, про Коттеджи, про все, что взбредало нам на ум. Когда я думаю о Рут сейчас, мне, конечно, печально из-за того, что ее не стало, но я и благодарность испытываю – благодарность за этот вот последний период.
Была все же одна тема, которую мы по-настоящему никогда не затрагивали, – а именно то, что Рут сказала нам тогда в машине. Время от времени, правда, она на это намекала. Говорила примерно так:
– И все-таки ты не думала больше о том, чтобы стать помощницей Томми? Ты ведь знаешь, что сможешь это устроить, если захочешь.
Вскоре эта идея – чтобы я сделалась его помощницей – заместила все остальное. Я говорила ей, что думаю об этом, но в любом случае даже мне не очень-то легко такое организовать. После чего мы обычно принимались обсуждать что-нибудь другое. Но я чувствовала, что далеко из сознания Рут это не уходит, и потому, придя к ней в последний раз, я, хоть она и не могла произнести ни слова, знала, что она мне хочет сказать.
Это было через три дня после ее второй выемки – меня наконец пустили к ней очень ранним утром. Она была в палате одна – все, похоже, решили, что сделали для нее максимум возможного. По поведению врачей, координатора и сестер мне к тому времени уже стало ясно, что на поправку рассчитывать не приходится. Первого же взгляда на нее, лежащую на кровати при тусклом больничном свете, мне хватило, чтобы узнать это выражение, которое я не раз видела на лицах доноров. Словно она заставила глаза смотреть внутрь тела, чтобы они помогали ей хоть как-то управляться с несколькими источниками боли в организме, – так беспокойный помощник мечется между тремя или четырьмя тяжко страдающими донорами в разных частях страны. Формально говоря, она еще была в сознании, но пробиться к нему я, стоя у ее металлической кровати, возможности не имела. Как бы то ни было, я пододвинула стул, села, взяла ее руку в свои и бережно сжимала всякий раз, когда при очередном приступе боли она в судороге отворачивалась от меня.
Я пробыла около нее столько, сколько мне позволили, – часа три, может, немного дольше. И, как я уже сказала, почти все время она была далеко внутри себя. Но один раз – всего один, – когда она, корчась от боли, принимала пугающие, неестественные позы и я готова была уже позвать медсестер, чтобы ей дали новую дозу обезболивающего, она каких-нибудь несколько секунд, не больше, смотрела на меня в упор и хорошо понимала, кто я такая. Это было одно из тех крохотных просветлений, что случаются иногда у доноров в разгар их кошмарных битв, и в эти секунды она только глядела на меня, ничего не говоря, но я понимала, что означает этот взгляд. И я сказала ей: «Да, Рут, я это сделаю. Я стану помощницей Томми, как только смогу». Я произнесла эти слова вполголоса, зная, что, прокричи я их даже, она все равно ничего не услышит. Но в этот короткий промежуток, когда мы смотрели друг другу в глаза, она, я надеялась, смогла все прочесть по моему лицу так же отчетливо, как я – по ее. Потом момент миновал, и она опять стала недоступна. Наверняка я, конечно, никогда этого не узнаю, но мне кажется, она поняла. А даже если и нет, я думаю сейчас, что, скорее всего, ей сразу, даже раньше, чем мне, стало ясно, что я буду помощницей Томми и мы сделаем попытку, о которой она так настойчиво говорила нам в машине в тот день.
Я стала помощницей Томми почти точно через год после поездки к лодке. Незадолго до этого ему сделали третью выемку, и, хотя восстанавливался он хорошо, ему все еще нужно было много отдыхать, и не так уж плохо, как выяснилось, было начать этот новый этап вместе. К Кингсфилду я вскоре привыкла, даже прониклась к нему нежностью.