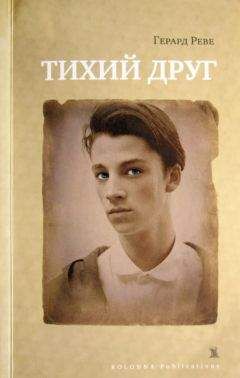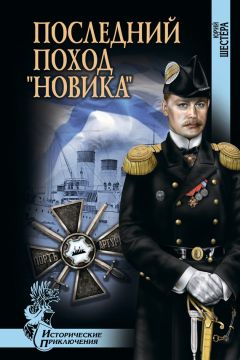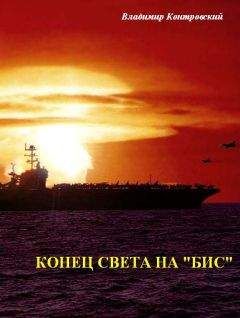Сообщение о ее смерти, о самоубийстве, которое она совершила несколько лет спустя в лагере в Вестерборке, вечером перед транспортировкой в газовые камеры в Польше, меня даже не взволновало, а лишь удивило: неужели это существо, как и я, было способно почувствовать страх и безнадежность?
И без счета возникают в ночи мертвые, что погибли от голода, в газовых камерах, забиты до смерти, застрелены, умерщвлены тем или иным способом: Давида К. застрелили, потому что он выпал из строя во время последнего марша смерти, или же он упал и замерз; его отец еще раньше погиб в лагере от истощения; Симон Л., v которого была возможность убежать во Фрисландию, но он был слишком измотан, чтобы начинать подобное предприятие; Берточка В. и ее братик Лендерт, которые вместе с родителями отравились дома газом, приняв сначала яд; мне потом достался костюм братика, который я еще долго носил; красивый, худенький мальчик, чьим образом я частенько вдохновлялся, играя своей тайной частью тела. (Когда я стал владельцем костюма, надевал его или зарывался в ткань лицом, мне удавалось еще быстрее достигнуть насыщения, я представлял мальчика в своих объятьях, голого, уже бездыханного, но с еще не окоченевшим телом. Секс и Смерть — сии две, уже тогда, но Выпивка в то время меня еще не настигла.) И Карл, муж Илсы, который бежал в Амстердам, был пойман в Брюсселе и обезглавлен в Берлине. Я не знаю, что и думать об их появлениях, которые вселяют в меня неизмеримую печаль; мне трудно рассказывать о них кому-то еще, потому что если собеседник не может понять или расслышать хоть одно мое слово или произносимое имя, я готов взорваться от ярости. Но если быть честным и писать только правду, то вот она: я рад, что «Доктор» Б. умерла, и я рискую встретиться с ней лишь в моем воображении, но не в реальности, в общественном транспорте, — какой смысл лгать или отворачиваться от действительности? Я вижу лишь Смерть.
В течение всех этих лет я частенько пробуждался от душных снов о школе, которая все еще представляет для меня воплощение хаоса, одиночества и ужаса, — вот почему я надеюсь, что ни одному из бывших учителей или одноклассников не придет в голову писать мне или искать какого-либо общения со мной, вообразив, что это может быть забавным или приятным. Я уже заметил ранее, что вовсе не люблю прошлого, что и без переписки или разговоров об этом, оно возникает в моей жизни достаточно часто и с сокрушающей силой: как примерно с неделю тому назад, когда мы были по соседству в П., в гостях у Булли ван дер К.; довольно долгое время никто ничего не говорил, я молча смотрел наружу, в пустоту, потому что даже вдалеке не было видно никого, подобно мне сидевшего у окна, и так далее, ничего такого не наблюдалось. Если в повествовании есть тишина, то нужно и о ней писать, повторяясь, до самой Смерти, это я теперь уж знаю, иначе нельзя.
(Пока все молчали, я вспоминал немецкого беженца, который приблудился к нам тридцать один год назад; человек с поврежденным после концентрационного лагеря желудком, который еще никогда в жизни не видел моря, и мы поехали тогда — я показывал ему безопасную дорогу, чтобы его не схватили и не выдали, — на Гарлемском трамвае до Зандворта, где он бессловесно наблюдал заходящее солнце, пока я собирал разных морских тварей в свой беретик, я их потом хранил еще много лет в спирте, в банках из-под варенья; теперь я припомнил, что до того, как мы отправились в обратный путь, он купил мне шоколадку за гульден, в то время как можно было купить три, хоть и маленьких, шоколадных батончика за десять центов; я еще долго после этого мучился угрызениями совести.)
Так вот, мы сидели утром у Булли дома в П., снаружи раскинулось неподвижное небо, а мы сидели все вместе, предаваясь размышлениям: Тигра, который еще не совсем оправился от ангины, временный Второй Призовой Жеребец К., который правил автомобилем Тигры, пока тот был болен, Булли и я. Дни проходят, это мы уже хорошо понимали, в почти постоянной Меланхолии, так что мы принесли с собой литр выдержанной можжевеловой водки, а потом прикупили еще пол-литра, чтобы употребить попозже, дома, и оставили бутылку в машине. Мы и не подозревали, что все закончится привычным образом: «гоп, гоп, по дороге в кафе».
— Ах, давайте просто посидим, поболтаем, — начал я. — Если, конечно, у тебя есть свободная минутка.
Свободная минутка у Булли была.
— Только давайте не так, как раньше, без всех этих проблем, давайте обсудим, например, проблему артистического формирования. Я даже примерно представляю себе, с чего можно начать.
Булли все еще был в поисках подходящего места для можжевеловки. Морозилки у него не было, а единственное подходящее для охлаждения место — маленький подвал под кроватью — было слишком далеко. Пока я наблюдал за движениями его бедер, обтянутых узкими голубыми джинсами, я понял, что он меня все еще возбуждает и с сожалением констатировал, что нет у меня сестрички лет пятнадцати или шестнадцати, которой он мог бы, после того, как я ее неумолимо обнажил бы, долго и основательно обладать и так далее.
После первого стакана, который приятственно подействовал на Соки и привел их в движение, мы осмотрительно залили в себя по второму. Мы могли бы послушать какой-нибудь старый фонограф, подумал я вдруг, или пойти посмотреть на какой-нибудь поломанный автомобиль, покрашенный в серый или бледно-голубой цвет, медленно разлагающийся на кирпичной подставке в саду, с кустами бузины, торчащими из карбюратора, но я знал, что все в мире взаимосвязано и какая-нибудь артистичная сучка, которая рисует на картоне и «продает свои зарисовки без малейшего труда», обязательно будет загружать нас при этом объяснениями, как нужно созерцать подобные вещи, поддерживая беседу изысканными рассказами о том, что можно буквально «за копейки» купить примерно два с половиной фунта, да-да, нежирной говядины, порезать мелкими кусочками, добавить чеснок, слегка обжарить в оливковом масле и «в таком вот высоком глиняном горшке», долив туда, ну, где-то 2,5 бутылки красного бордо, «отлично» приготовить, дав блюду дойти до готовности на маленьком огне.
И все же я почувствовал, что проникся животворным теплом.
— Творящий художник, артистичный тип, как у тебя дела-то? Натянул холст, но не смог выбрать нужный оттенок, а? Не, серьезно, я не издеваюсь, нет, у тебя хоть что-нибудь получается последнее время?
— Ах, люди бывают так чертовски скучны.
— В смысле? — спросил я. — Твой дом осаждают толпы народу? И сколько ты им должен?
Речь шла всего о нескольких сотнях гульденов, они того и не стоят. Но он довел их уже до того, что каждую неделю, обычно по пятницам, они отключали ему электричество и оставляли его сидеть все выходные в темноте.
— И даже если ты приползешь на коленях и отдашь им деньги, можешь забыть о том, что такой вот фонарщик придет в субботу или воскресенье, чтобы подключить электричество обратно, — прорычал он.
— Они подавляют личность, — подтвердил я.
Мы употребили по третьей, освежающей, мы — это только я и Булли, потому что Второй Призовой Жеребец притормозил с выпивкой, ведь он был за рулем, а нам еще ехать обратно, Тигра тоже отказался и сидел неподвижно, все еще укутанный в шарф.
— Жить нужно скрытно, — предположил я. — Слово говорит само за себя.
И несмотря на то, что в глубине души я прекрасно знал, что то, что я скажу, будет лишь красивыми словами, ведь в действительности все гораздо сложнее и труднее, но, глядя на серое небо и чувствуя, как лицо стягивает «маска из свиной кожи», я стал проповедовать дешевые теории с легкостью, для меня в общем-то странной, теории, в которых я сам нашел основательную, грустную сомнительность еще до того, как проговорил до конца первое предложение.
— Ты, конечно, можешь усложнять себе жизнь, сколько угодно, — начал я. — Но представь, что кто-нибудь хочет себе картину, на которой будет, например, изображена часть его садика, а на этом фоне он сам с граблями в руках, дальше — пара мопедов, прислоненных к стене сарая, чуть поновей, чем они есть на самом деле. Ну, и что тут такого? Ничего особенного, ведь ты в состоянии все это нарисовать? Те несколько предметов, что я назвал, должны появиться на полотне, так этому мужику хочется, за это он готов заплатить. Но ты оставляешь немного места, ну, не знаю, сколько, достаточно для того, чтобы изобразить то, что хочешь, какого-нибудь амурчика или венерочку; или такие искривленные солнечные часы из кованого железа, двух котов, которые, например, сидят и смотрят друг на друга, или бегущую птицу на переднем плане, а мужик этот совсем не рассердится, потому что если ему это сразу и не приглянется, ты ему скажешь, что это нужно было, чтобы оттенить цвет его лица или потому что перспектива с двумя мопедами была слишком скупой, ну, наболтаешь чего-нибудь, мне кажется, ему даже понравится, если на картине будет что-то такое, чего он не заказывал, платить-то ему за это уже не надо, довесок ему ничего не стоит, а люди, которые будут любоваться картиной, подумают, что он наверняка знает латынь, потому что там стоят такие вот скульптурки, как ты считаешь, а? Бах, между прочим тоже делал подарки на дни рождения, и он горшки обжигал, ту-ву-ти-ди-ду, только потом это стало признанной красотой.