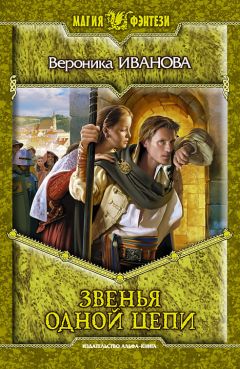— Слушайте, — мирно, терпеливым штатским голосом начал Зыбин, подбирая ноги. — Я вас прошу все-таки…
— Вста-а-ть! Я попрошу! Я тебе так попрошу, гад! — И вдруг, закусив губу, он размахнулся и прямо-таки всадил сапог ему в колено. Жгучая, огненная боль сразу же сожгла Зыбина всего. Он даже на секунду, вероятно, потерял сознание. Удар пришелся на старый рубец, костную мозоль, такую болезненную, что Зыбин с детства не мог даже опуститься на это колено. С минуту он сидел неподвижно, весь заполненный этой болью, потом собрал дыхание, снял пальцем слезы, наклонился и засучил брюки. Сапог сбил кожу. Рубец налился и стал похож на черную гусеницу. Зыбин давнул ее, и потекла кровь. Он вздохнул и покачал головой.
— Да ты мне еще будешь! — заорал будильник, совсем теряя голову, и снова занес ногу. — Вста-ать!
Зыбин послушно поднялся, посмотрел на будильника и вдруг молниеносно схватил его за горло, «за яблочко, за яблочко, за самое яблочко», как кричали в одном историко-революционном фильме. Продержал так секунду, ударил коленом в живот, мотнул, как дохлую соломенную куклу, туда и сюда и, заламывая подбородок, швырнул к двери. Все это в пяток секунд — точно и четко, как на учении ближнего боя. Будильник отлетел к двери, стукнулся о косяк, крякнул и сел на пол.
А Зыбин тоже сел и ладонью обтер кровь. Некоторое время оба они молчали.
— Ах ты, — изумился с пола будильник, хотел что-то крикнуть, но вдруг зашелся и затрясся в мучительном кашле.
— Вы воды выпейте, — посоветовал Зыбин и привстал было за графином.
— Сядь! — рявкнул будильник и, шатаясь, встал с пола.
Зыбин обтер ладонь о брюки и снова наклонился над коленом.
— Вот если вы мне повредили коленную чашечку, — сказал он и вдруг закричал: — Кровь! Кровь течет! Видишь, дегенерат, что ты наделал! Кровь течет! Ах ты, поносник несчастный!
Будильник испуганно шикнул, вскочил и уперся в дверь спиной, но ее уже толкали.
Он отступил.
— Что там у тебя такое, капитан? — спросил чей-то густой и спокойный голос, и показался седой красивый старик с белым коком, в военной форме. Он был осанист, представителен и походил на екатерининского вельможу — начальник отдела майор Пуйкан. Зыбин вытянулся в струнку, коленка у него была голая, в крови.
— Да вот, в дурачка задумал играть, — в сердцах ответил следователь, сразу приходя в себя, — припадок его забил! Вызову врача, сразу выздоровеет! Я его в рубаху затяну! Колено у него, видишь ли!..
— Это все тот? — спросил старик, рассматривая Зыбина.
— Да, тот самый! Ученый! Ничего! У меня не попартизанишь! У меня все подсохнет как на собаке! Ничего! Коленка! Ничего!
— Да, слышали, слышали про его подвиги, — многозначительно сказал старик и вышел.
Капитан подождал, пока закрылась дверь, возвратился к столу, сел и спросил:
— А вы знаете, что вам за это будет? — Зыбин молчал. — Опустите штаны. Вот сейчас отсюда в карцер пойдете. («Боже мой, — подумал Зыбин. — Неужели отправят? Вот бы выспался!») Опустите штаны, вам говорят!
— Одним словом, так: если вы меня еще ударите… — сказал Зыбин ласково.
— Ну и ударю, — азартно, подхватил следователь, — и сто раз ударю. И морду разобью, ну, что ты мне сделаешь? Что? Что? Что? — Однако с места не сдвинулся.
— Плохо будет, — пообещал тихо и серьезно Зыбин. — Очень плохо, я вам устрою репутацию битого! Вас завтра же отсюда палкой погонят! Битого-то!
— Ты, вражья морда, говори, да не заговаривайся! — крикнул следователь.
— Не ори, козел, не глухой! — крикнул Зыбин, и следователь сразу же сник.
— Ну ладно, — пообещал он зловеще. — Завтра я тебе покажу что-то. Да опусти же, опусти брючину, — сказал вдруг он совсем уже другим тоном, — ведь тут женщины ходят, неудобно! Задрался!.. Ученый! Опусти!
И правда, женщина за время этих ночных бдений появлялась в этом кабинете уже несколько раз. Это была все та же секретарша. И каждый раз, когда она заходила, красивая, стройная, подтянутая, сдержанно улыбающаяся, и спрашивала что-нибудь у будильника, Зыбин всегда ловил ее взгляд. Она глядела на него теперь прямо, пристально, не скрываясь. И он смущался, ерзал — уж слишком он сейчас был неказист — грязен, небрит, растерзан — и никак не мог понять, что же такое в этом взгляде: сочувствие? невысказанный вопрос? или просто бабье любопытство — что же ты за зверь такой?
И потом в бессонные ночи, сидя на этом стуле, он думал: а не встречался ли я с ней где-нибудь в городе? Но, кажется, нет, не встречался.
Но ни карцера, ни рубашки не последовало. Да и вообще ничего больше не последовало. Утром, как обычно, пришел Хрипушин — свежий, принявший душ, отмякший за ночь — и капитан ушел, а Хрипушин что-то приговаривал, над чем-то мелко посмеиваясь, снял и повесил на металлический стояк коверкотовый плащ — кто-то недавно верно написал, что коверкот был тогда у органов почти формой, — прошел на свое место, отодвинул кресло, сел, водрузился и быстро спросил:
— Ну, герой, надумал что-нибудь за ночь? Нет, умная у тебя голова, а дураку досталась — так, что ли?
И снова потянулся длинный, мучительный, жаркий, бессмысленный день. Они сидели друг против друга, вяло переругиваясь, мельком переговариваясь, и иногда на пятнадцать-двадцать минут теряли друг друга из вида — один засыпал, а другой делал вид, что пишет или читает.
А вечером появился новый будильник, и на следующую ночь другой, и еще на следующую еще другой — и были они не капитаны, не дежурные по следственной части, а просто парни лет двадцати, двадцати трех — злые и добродушные, молчаливые и разговорчивые, тупые и вострые.
И так продолжалось еще три ночи.
Бессонница мягко и гибко обволакивала мозг зека. Все становилось недействительным, дурманным — все мягко распадалось, расслаивалось, как колода карт, бесшумно рассыпавшаяся по стеклу. Он жил и двигался в каком-то странном пространстве — слегка сдвинутом и скошенном, как в кристалле. Воздух казался густым и синеватым, словно в угарной избе. Все носило привкус сна и доходило через вату. Это и помогало: ничто не поднимало на дыбы, на все было, в общем-то, наплевать. Просто когда Хрипушин с руганью бросался на него, как бы сами собой включались ответные силы: верно, это вставал на дыбы и рычал древний пещерный медведь — инстинкт. Этот зверь понимал, что нельзя, чтоб его тут били. Раз ударят, и еще ударят, и тысячу раз ударят, и совсем забьют. Потому что сейчас это и не удар даже, а вопрос: «А скажи, нельзя ли с тобой вот так?» — и ревел в ответ: «Попробуй!»
А колено болело все больше и больше. Сидеть было трудно, но на вопрос Хрипушина, что у него с ногой, Зыбин просто ответил: зашибся.
— И что это вы все зашибаетесь? — покачал головой Хрипушин и отослал Зыбина с конвойным в санчасть.
В санчасти — белой прохладной камере — горели синие спиртовки, пахло валерьянкой и было тихо и спокойно. Бинтовала Зыбина фельдшерица, еще молодая, но уже безнадежно засохшая маленькая женщина, вся засаженная золотыми мухами. А потом из-за ширмы вышел молодой красавец с длинными волосами на обе стороны. Пальцы у красавца были твердые, холодные, мелодичные, и вообще он так походил на Станкевича или юного Хомякова, что на вопрос, как же это он так зашибся, Зыбин чуть ему не ляпнул правду. Красавец пощупал у него пах, спросил, не больно ли, и сказал:
— Больше сидите или лежите. Я освобожу вас от прогулки.
— Я и так сижу сутками, — ответил Зыбин, но молодой Хомяков ничего, кажется, не понял, а отошел к умывальнику. Затем Зыбина снова отвели в кабинет Хрипушина, и опять началась та же детская игра.
А игралась она так. (Оба сидят усталые, распаренные, обоим все это до чертиков надоело.)
— Ну, когда же мы будем рассказывать? — спрашивал следователь зека.
Зек отвечал:
— О чем же?
— О подлой антисоветской деятельности, — говорит следователь.
— Подлостями не занимаюсь, — отвечает зек.
— Так что ж вы думаете, — скучно и привычно тянет следователь, — мы так, ни с того ни с сего, забираем советских граждан? Так, что ли? Так у нас не бывает! (Зевает.)
— Может быть, — отвечает зек, зевая, — может, так у вас и не бывает, но со мной вышло именно так.
— Так что же вы думаете… — снова привычно и скучно заводит следователь.
Так продолжается еще с час. А потом оба окончательно устают и умолкают. Потом Хрипушин звонит разводящему. Но бывали, впрочем, и неожиданности. Иногда следователь не остережется и пустит в ход любимый аргумент этих мест:
— У нас отсюда не выходят.
Но тут зек быстро спрашивает:
— Так что ж, по-вашему, советский суд уж никого и не оправдывает?
Сразу же создается острейшая тактическая ситуация: ведь не скажешь ни «да», ни «нет». И следователь начинает орать.
— Не смей оскорблять пролетарский суд! — захлебывается он. — Как это никого не выпускают! Кого надо, того выпускают!