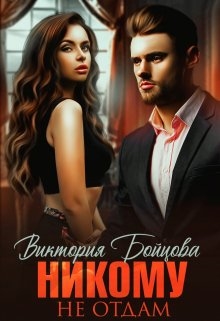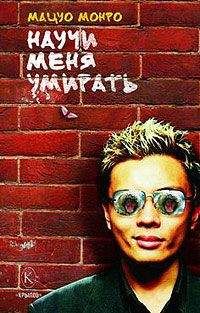в наши руки.
По счастью Лаврентий, хоть и писал стихи, сентиментальным не был, поэтому не стал размусоливать в нашем дружеском кругу свою потерю. Он вообще никак не показывал, что у него есть больше прав на скорбь, чем у нас. Когда я только узнал о смерти его бабушки, я вознамерился выразить ему соболезнования, а он сказал — даже прежде, чем я открыл рот:
— Ты ничем не сможешь мне помочь.
— Я постараюсь не мешать, — смиренно ответил я.
— Я сказал это для того, чтобы ты не чувствовал вину за бездействие. Это не значит, что мне неприятно твоё присутствие.
— Вот это неожиданно, — признался я.
Мы с ним оба умолкли, а потом он вдруг серьезно сказал мне:
— Я общаюсь только с теми, за чье присутствие я благодарен.
Так серьезно сказал, как будто сообщил самую главную истину своей жизни. Открыл мне ее изнанку.
— Значит, у нас с тобой все не так уж и плохо?
Лаврентий улыбнулся.
— Конечно. Ты всега давал мне понять, что существует не только мой мир — еще и твой.
Я сразу забыл про его измену. Ну, дружескую. С Ярославом.
На этом мои домашние обязанности подошли к концу. А когда на улице лето, сложно удержаться от соблазна выйти на прогулку. Солнце, птицы, зелень. В общем, хорошо летом на улице.
И я оставил их: Лаврентия — в его скорби, Ярослава — в его суете. Я вспомнил, что в городе есть много всего интересного, и пошел на набережную. Румани сидела на привязи, вот и получилось, что я пошел один.
Красная вода плескалась о берег, над ней висел такой же красный закат. Я уже давно не обращал внимания на красоты природы, а теперь мне стало на них гораздо более, чем похрен. Похрен в кубической степени.
Я потерял деньги. Я потерял столько денег, сколько у меня не было ни разу за всю мою жизнь.
Это чувство переполняло меня. Чувство счастья.
Если я их потерял, значит, я их заработал. Я имел право потерять такие деньги.
Когда я шел домой, закат уже иссяк; я выпил его до дна, впитал все оттенки окончания того ужасного дня и чувствовал себя победителем. Я жив, день — нет. У меня будет завтра, у сегодня не осталось ничего, кроме жалкого вчера.
Мне казалось, я в порядке ровно до тех пор, пока жив. Раньше со мной такого не было: ни когда я лежал в больнице с поломанными и расщепленными костями, ни когда я лежал без денег на том диване, где теперь спала Румани, и думал только о том, как бы найти пиво. Ни даже тогда, когда я перемалывал покойников в фарш, хотя, казалось бы, созерцание чужой смерти должно отсрочить предчувствие собственной — они мертвы, а я нет. Это ли не везение?
Конечно, эта палка о двух концах: можно вспомнить о том, что в тебе находится точно такое же мясо, которое можно перемолоть в фарш. Как посмотреть.
Лично я с недавнего времени решил не смотреть никак. Я приучал свою голову не думать о том, что нам с ней неприятно или, того хуже, печально; после заката я твердо решил не грустить вообще, немного раньше — понял, что грустить мне нежелательно. Мало того, что настроение ухудшается, так еще и работоспособность падает. Ничего положительного, кругом и рядом один мрак. Так всегда бывает, если вдруг получается, что кто-то или что-то (а может, даже я сам) меня расстроит.
Решение нелегкое, да и жить без грусти я не привык. Всегда прощал себе эту слабость: периодически впадать в меланхолию и предаваться размышлениям о неприятных составляющих жизни. Но решение бросить грустить — единственное полезное решение за всю мою осознанную жизнь. Всем рекомендую!
Я шел домой по людной улице. В теплое время года и позднее время суток на широких бульварах всегда так. Людно. Но я не думал о неприятных составляющих жизни. Как оказалось, если я не думаю о них, то я не думаю вовсе, и вот это уже нелегко: прервать внутренний монолог и погрузиться в тишину, не заполняя ее воплями своего мерзопакостного нутра, которое только и ждет повода пожалеть себя.
Так вот, пока я шел по улице, погода стояла не холодная. Теплая. А воздух — густой и душный, и все вокруг голубовато из-за спустившихся сумерек, а небо — зеленовато на западе и темно-синее к востоку.
В такое время на теле города особенно темными пятнами густятся дворы. Окошки домов светятся самыми разными цветами под цвет штор, если они задернуты, и люстр, если нет. Я чувствовал себя уютно.
Я чувствовал себя уютно до тех пор, пока не увидел силуэт возле нашего подъезда.
Дело в том, что я узнал этот силуэт.
— Мой брат из-за тебя в ментовке, — дрожащим голосом проблеяла Кадира, когда я еще даже не поравнялся с ней. — Из-за вас всех. И ваших пирожков.
— Да не из-за нас он, его как мигранта повязали, — попытался соскочить я.
Глаза Кадиры расширились настолько, что чуть не выпали из глазни, а массивный нос сморщился. Она заревела:
— Ты мудак!
А я никак не мог с этим согласиться.
— Ну почему же?
— Да потому, что мы оба тут родились! Мало того, что маньяк, так еще и врун!
Представители моего поколения всегда оценивают боевую готовность противника, когда есть повод ему нахамить. Прикидывают вес и шансы.
Конечно, не мне учить ее манерам. Но что я мог поделать, если ее старший брат в тюрьме? Я должен был как минимум провести воспитательную беседу. Как еще поступить с ребенком, который не умеет себя вести!
И я схватил ее за волосы — за толстый хвост блестящих черных волос, — и дернул к себе.
Она закричала.
— Тебя никто не учил за базаром следить? — прошипел я.
К сожалению, она не оценила мои старания ее воспитать. Слишком была занята своими воплями.
А я, в свою очередь, не стал оценивать ее вопли. Чтоб по-честному.
Теперь она уже не казалась такой свирепой, как встретивший меня злой подросток. На лице один страх, тушь потекла, ноги неуклюже расставлены в стороны.
Я шлепнул ее по щеке ладонью наотмашь. Я сделал это просто потому, что мне захотелось — только потом понял, что это была пощечина, но определение дела не изменило. После этого она перестала вопить и тихо заскулила.
Поначалу я опасался, что кто-то всполошится шумом и, чего доброго, вызовет милицию, но окна пустовали. Ни